Всегда находятся более срочные дела. А для написания биографии надо разбирать архив - это длительная работа.
Тем не менее кое-что я уже написал:
"Сова Минервы вылетает в сумерки..." Опыт философской автобиографии
1975: Москва ‒ Алжир ‒ Мюнхен. Опыт моей переводческой биографии
Что значит слово "писатель"? Опыт моей писательской биографии
Понимание всех народов дает только Православие. Беседа Рената Аймалетдинова (журнал "Парус") с Михаилом Назаровым (февраль 2018).
НТС в эпоху крушения коммунизма. Как и почему я вышел из НТС (1992-1993)
"Миссия русской эмиграции". Гл. 25 (часть 2). Возвращение. Путем зерна
Форум издательства Русская Идея
Мы стремимся заполнить "белые пятна" истории и дать ключ к пониманию происходящего.
Ваша биография
Сообщений: 23
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Ваша биография
Продолжаю начатые воспоминания (пока в статусе черновика, надо уточнять по архивным бумагам)
(см. пред. страницу)
1. МОИ ПРЕДКИ ‒ ЭТО КОРНЕВАЯ ЧАСТЬ МОЕЙ БИОГРАФИИ
Прошло три года. Не знаю, соберусь ли с силами – и когда – чтобы приступить к таким воспоминаниям. Думаю, что еще не созрел для должного выполнения этой задачи, пока не выполнил некоторые, поставленные себе ранее. А их невыполнение – в некотором роде поражение от собственной лени и слабостей.
Однако я чувствую, что Господь Бог имеет обо мне Свой замысел, который меня обязывает к движению в заданном направлении. Думаю, что каждый человек может обнаружить в своей биографии некоторые доказательства того, что Замысел этот о нем, о каждом из нас, существует, иначе бы жизнь каждого из нас уже не раз давно закончилась бы как безсмысленная и безнадежная. Или даже вообще не началась бы, как в моем случае: оба моих родителя, отец и мать, появились на свет уже после того, как их отцы были убиты в т.н. гражданской войне (точнее: при оккупации России сатанистами-богоборцами). Это первый очевидный факт в моей биографии, свидетельствующий о том, что "мiр во зле лежит", и от этого кромешного зла, выплеснувшегося в революции, Господь для чего-то помогал мне выкарабкиваться на свет Божий.
Назаровы и Рузины. Пахомов
Отец моего деда, мой прадед Леонид Иванович Назаров был сельским писарем в пригородном селе Ильинское близ г. Кузнецка (Томской губернии), но, видимо, его сноха ‒ моя бабушка-атеистка, постеснялась сказать мне, что он принял сан священника (это позже я узнал от своего отца) и именно поэтому был убит красными партизанами-роговцами (под руководством Г.Ф. Рогова ) при их погроме Кузнецка 9 декабря 1919 г. после оставления города белыми частями. (Вероятно, он стал священником не ранее 1918 года, когда в связи с начатыми гонениями большевиков на Церковь по призыву Патриарха Тихона стали повсеместно рукополагать духовенство без внесения его в официальные списки. И его следует считать принадлежащим к сонму Новомучеников этого периода.)
В историю гражданской войны это "триумфальное шествие" советской власти в Кузнецке вошло как "погром кузнецкой интеллигенции". «Убивали без разбора по социальному признаку. Из четырёх тысяч жителей Кузнецка две тысячи легли на его улицах. Погибли они не в бою. Их, безоружных, просто вывозили из домов, тут же у домов, у ворот раздевали и зарубали шашками. Особо "именитых" и "лиц духовного звания" убивали в Преображенском соборе. Редкая женщина или девушка избегала гнусного насилия. Рубились люди по "классовому признаку": руки мягкие – руби…» (В.Зазубрин. "Неезжеными дорогами", 1926). Моего прадеда роговцы заставили бежать от храма на гору вблизи "Островскóй площадки" (до большевиков она называлась: село Христорождественское ‒ одна из исторических частей старого города) и убили разрывной пулей в затылок, его жена Матрена собрала разлетевшийся мозг в платочек... Моя бабушка как учительница тоже относилась к уничтожаемой "классовой" категории, но ее отец, портной Павел Яковлевич Рузин, спрятал ее в подвале.
Мой дед Виктор Леонидович Назаров. Сведений о нем у меня очень мало: послужной список времени Великой (первой мiровой) войны в Российском государственном военно-историческом архиве. Из него следует, что родился он 10 сентября 1895 г., «из мещан гор. Ново-Николаевска... выдержал испытание при Томском реальном Алексеевском училище на вольноопределяющегося II разряда и прошел 3-х месячный курс при томской школе прапорщиков... 10 мая 1916 года произведен в прапорщики... зачислен в 37 сибирский стрелковый запасной полк». В этот день и был открыт его офицерский послужной список, но дальнейших сведений в нем нет, в том числе о производстве в следующий чин, о командировке «вглубь ...ских степей за киргизами» (так он писал оттуда родителям на открытке с видом Петропавловска, 30.7.1916), и затем о нахождении на фронте в Галиции, откуда позже пришла его открытка с видом г. Коломыя.
По возвращении с фронта мой дед и бабушка Вера поженились, во время белой власти в Сибири он служил в армии адмирала А.В. Колчака, где, в частности, командовал отрядом при подавлении красных выступлений в белом тылу. После хаотичного отступления белых мой дед некоторое время скрывался в Кузнецке в доме Рузиных (у бабушки). После объявления амнистии явился в советские органы власти и был расстрелян в 1920 году.
В начале 2000-х годов Новокузнецкий краеведческий музей устроил большую выставку жизни нашей семьи ‒ поскольку в ней, благодаря моей бабушке-учительнице Вере Павловне Рузиной, сохранилось много фотографий, переписки и разных сведений об общественной жизни и интеллигенции Кузнецка в первые десятилетия ХХ века, тогда маленького уездного городка; была и передача по местному телевидению. Выставка размещалась в двух комнатах и называлась "ХХ век. Судьбы кузнецкой интеллигенции" (позже она была передана в музей гимназии, где учился мой дед и преподавала бабушка). Руководство музея обратилось в Кемеровское ФСБ (бывшее ЧК- НКВД-МГБ-КГБ) с просьбой выдать материалы расстрельного дела моего деда, но получило отказ, поскольку В.Л. Назаров "не реабилитирован" и потому сведения о таких преступниках не выдаются: «Назаров В.Л. реабилитации не подлежит, сообщить какие-либо сведения о его судьбе не представляется возможным» (6.06.2000).
Сотрудники музея и Управление культуры администрации г. Новокузнецка подали в суд прошение о реабилитации, но и там получили отказ со следующей мотивировкой: «Назаров признан виновным в том, что он, будучи подпоручиком Царской Армии, в 1918 г. был мобилизован на военную службу в Армию Колчака и назначен командиром карательного отряда. Находясь в этой должности, Назаров производил аресты, обыски и порки граждан, отдавал приказы о расстреле красноармейцев» (Постановление Президиума Кемеровского областного суда от 2.12.2002 под председательством В.М. Вьюнова по заявлению сотрудников Новокузнецкого краеведческого музея).
Из перечисленных далее в этом постановлении фактов и показаний свидетелей упоминается только один (!) случай расстрела красноармейца по приказу В.Л. Назарова в апреле 1919 года, причем не указано, за какое преступление (возможно расстрелянный того вполне заслужил). За эти "зверства" мой дед и был расстрелян, а тело выброшено на свалку, как рассказывала мне бабушка. На мой вопрос: почему он стал на сторону белых, а не красных, бабушка ответила: он считал, что красные ‒ враги России. «Реабилитации не подлежит», – ответили на запрос упомянутые Кемеровское ФСБ и Кемеровский суд.
Вот и всё. Нет даже его фотографии – многое бабушка уничтожила из опасения дальнейших большевицких репрессий, а немногое спрятанное было уничтожено наводнением (так она мне говорила).
(Аналогично власти РФ отказали и в реабилитации адмирала Колчака, поскольку в советской историографии, для оправдания красного террора как якобы оборонительного от "белого террора", он приписывается именно Колчаку. Хотя ничего подобного как предписанной сверху документами карательной политики по отношению к населению в белых армиях не было ‒ в отличие от большевиков. Напомню: ими были опубликованы в июле 1918 г. подписанный Лениным всесоюзный декрет Совнаркома о преследовании т.н. "антисемитизма": «Совнарком предписывает всем Совдепам принять решительные меры к пресечению в корне антисемитского движения. Погромщиков и ведущих погромную агитацию предписывается ставить вне закона», что означало: расстреливать (Известия. 1918. 27 июля), а в сентябре ‒ знаменитый Декрет о красном терроре (5 сентября 1918 г.). При этом член коллегии ВЧК Лацис дал печатное указание в чекистском еженедельнике "Красный террор": «Не ищите в деле обвинительных улик о том, восстал ли он против Совета оружием или словом. Первым долгом вы должны его спросить, к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, какое у него образование и какова профессия. Эти вопросы должны разрешить судьбу обвиняемого. В этом – смысл и суть красного террора» (Красный террор. Казань, 1918. № 1. 1 нояб. – Цит. по: Правда. 1918. 25 дек. С. 1.).
С моей точки зрения, ни Колчак, ни его офицер – мой дед, отдавшие свои жизни за историческую Россию, совершенно не нуждаются в реабилитации от нынешних нелегитимных правителей, преемников тогдашней нелегитимной большевицкой власти, – утешил я сотрудников музея.) Лишь при посредничестве московского Общества "Мемориал", куда обратились музей и администрация города, удалось узнать дату приговора (постановление Петропавловской уездной Чрезвычайной комиссии от 6 июля 1920 г.), она, возможно, является и датой расстрела – у Святого колодца под Кузнецком. Это место я посетил в 2000-м году...
В семье Назаровых (в с. Ильинском под Кузнецком) были дети, помимо моего деда Виктора: Петр, Михаил, Анатолий, Владимiр, Ираида. Согласно рассказам бабушки и записям моего отца, Михаил пропал безследно в 1920 году. Петр "был репрессирован, видимо, из-за брата Виктора". Чтобы избежать репрессий из-за родственной связи с расстрелянным Виктором, они переехали в Прокопьевск (оттуда перед войной в Бийск). Мой отец Виктор ездил к ним с матерью. Тетя Рая (Ираида) была замужем за Черемных (?), у них была дочь Тамара (?) и сын.

На фото мой отец (второй слева) со своими дядями в Прокопьевске в 1931 г. Справа внизу Вера Павловна. Стоит Мыльников, двоюродный брат А.И. Пахомова.

Мой отец (слева) с дядей Анатолием Леонидовичем Назаровым. Во время его приезда в Кузнецк примерно в 1935-1937 гг.
Мой отец Виктор Назаров родился после смерти его отца, в выписке из актов гражданского состояния написано: 11 апреля 1921 года, «отец умер» (в паспорте позже была указана дата рождения 1 мая 1921 г. ‒ советский праздник). Ни та, ни другая дата не могут быть подлинными, учитывая дату приказа о расстреле В.Л. Назарова (6.7.1920), а до этого он находился под следствием (ведь опрашивали свидетелей). Отец мне говорил, что бабушка записала его с более поздней датой рождения из политических соображений, возможно, чтобы снять с него ответственность за отца; мне она говорила, что на отца он очень похож внешне).
+ + +

Отчим моего отца Афанасий Игнатьевич Пахомов во время Первой мiровой войны. 1915 г., Чугуевское военное училище.
В 1922 году вторым мужем моей бабушки стал Афанасий Игнатьевич Пахомов (род. 25.11.1888) , он тоже был офицером, выпускником Чугуевского училища. Согласно записям в послужном списке, 1 мая 1916 г. произведен в прапорщики, 14 февраля 1917 г. в подпоручики (командир роты), 9.8.1917 ‒ в поручики. Был участником германской войны (на румынском фронте), затем в армии Колчака. В советское время стал учителем географии, истории и математики в педагогическом техникуме г. Кузнецка. От него родились два брата моего отца: Вячеслав (стал "Заслуженным металлургом") и Юрий (в 11 лет у него отнялись ноги из-за полиомелита, он стал известен на своей улице как мастер на все руки по бытовой технике).
Мой отец носил фамилию Назаров до 16-летнего возраста, есть свидетельство о его усыновлении А.И. Пахомовым 11 октября 1937 года.
Афанасий Игнатьевич был арестован в 1938 году без дальнейших известий о его судьбе (что тогда означало: расстрел). В начале хрущевской десталинизации, 22 сентября 1957 года Кемеровский областной суд прислал бабушке "Справку о реабилитации" А.И. Пахомова. Бабушка получила также документ ‒ Свидетельство о его смерти, якобы последовавшей 25 ноября 1940 года по причине "острого пеанкреотита" ‒ что было ложью, так даже при Хрущеве старались приуменьшить карательный террор, сводя его в основном к невинно репрессированным членам партии.
Однако 1 ноября 1999 года Управление ФСБ по Кемеровской области прислало моему дяде-инвалиду Юрию Афанасьевичу такое письмо (привожу с сохранением орфографии):
«На Ваше заявление сообщаем, что согласно архивному делу № 3387 Ваш отец Похомов [так написано здесь и далее, с ошибкой. ‒ М.В.Н.] Афанасий Игнатьевич, 1888 года рождения уроженец д. Искомучна Мендилинского контона Татарской АССР, арестован 30 января 1938 года Стлинским ГО НКВД. До ареста проживал в гор. Сталинске. Состав семьи (на день ареста): жена ‒ Похомова Вера Павловна, 1896 года рождения, дети ‒ Похомов Виктор, 16 лет, Похомов Вячеслав, 12 лет, Похомов Юрий, 10 лет ‒ все проживали вместе с отцом.
Похомов А.И. был обвинен в том, что являлся активным участником монархической повстанческой организации. Постановлением тройки УНКВД Новосибирской области от 7 февраля 1938 года осужден по ст. 58-2, 8,9,11 УК РСФСР к расстрелу с конфискацией имущества. Постановление о расстреле приведено в исполнение 13 февраля 1938 года.... после ареста содержался в Старокузнецкой тюрьме.
В выданном Вам свидетельстве о смерти от 22 мая 1958 года дата и причина смерти не соответствует действительности...
Постановлением Президиума Кемеровского областного суда от 22 июля 1957 года № ПС-485 Афанасий Игнатьевич реабилитирован (посмертно) за отсутствием состава преступления...»
Фамилию Пахомов я носил первую половину жизни, сейчас ее носят мои дети. (Фамилию Назаров, которую использовал в эмиграции, официально восстановил в 1993 году, получая паспорт РФ в Мюнхене.)
+ + +
Предки моей сибирской бабушки Веры Павловны Рузиной происходили из с. Мотовилово Арзамасского уезда Нижегородской губернии; ее дед Яков Михайлович Ермолаев 25 лет прослужил в армии, фамилию Рузин получил на русско-турецкой войне 1877 г. от названия речки Руза, где проявил храбрость. Сохранились фотографии семьи Рузиных.

Семья Рузиных, вероятно г. Кузнецк, фото – конец XIX века. В верхнем ряду в центре – мой прапрадед Яков Михайлович Рузин (первая фамилия – Ермолаев, выходец из с. Мотовилово Арзамасского уезда Нижегородской губернии; 25 лет прослужил в армии, фамилию Рузин получил на русско-турецкой войне 1877 г. от названия речки Руза, где проявил храбрость). Рядом с ним слева – мой прадед Павел Яковлевич Рузин. Рядом с ним крайняя слева – его жена моя прабабушка Наталия Николаевна (ур. Колокольцóва). Крайняя справа в нижнем ряду – моя прапрабабка Степанида Михайловна Рузина, мать Павла Яковлевича. Крайний слева сидит – мой прапрапрадед Михаил, отец или Якова Михайловича или его жены Степаниды Михайловны. В центре нижнего ряда – жена Михаила, моя прапрапрабабка.

Семья П.Я. Рузина. Верхний ряд: крайняя слева стоит моя бабушка Вера, Яков, Зоя, Серафима. Сидят Павел Яковлевич и Наталья Николаевна. Нижний ряд: Таисия, Константин, Анфия, Александра. Кузнецк, 1916 г.
Мой прадед Павел Яковлевич Рузин (1875‒1937), согласно записям моего отца ‒ «был первоклассный портной. Этому ремеслу он обучил и всех своих детей. Однако они работали по другой специальности (многие ‒ учителями). Дедушка шил одежду и для губернатора. Несмотря на то, что он очень много пил, он хорошо зарабатывал, полностью обезпечивал большую семью, имел хороший дом, лошадей, корову и т.д... Последние годы его, видимо, принудили вступить в артель "Игла", где он работал закройщиком. Образ жизни вел прежний, но его не выгоняли, т.к. такого другого такого мастера в Строкузнецке не было. Он умер в возрасте 62 лет... Хоронили его на новом кладбище ‒ на горе. Народу было много. были признесеня речи».
В своих записях мой отец подробно рассказывает о сестрах и братьях моей бабушки и их семьях, но тут приводить это не стану.
Дмитренко и Бережецкие
Предки моей бабушки со стороны матери ‒ Бережецкие ‒ происходили из малороссийского казачества (в справке моей бабушки о ее социальном положении в 1926 году указано: казачка, причем документы она подписывала как Дмитренкова). Отец моей бабушки Ефросиньи ‒ Митрофан, его отец и три его брата держали лошадей и сапожничали, жили в селе Решетиловка Полтавской губернии. У Митрофана были сыновья Антон, Ларион (1890 г.р.), Устинья (1895 г.р.) и моя бабушка Ефросинья (1900 г.р.). (Отдельно я составил родословную схему всех известных мне Бережецких.)

Родители моей матери: Григорий Кузьмич Дмитренко и Ефросиния Митрофановна (ур. Бережецкая, из малороссийского казачества), с. Решетиловка Полтавской губернии, 24 июля 1919 г.
Отец моей матери Веры, малоросс Григорий Кузьмич Дмитренко, как рассказывала бабушка Ефросиния, был зарублен красным анархистом Нестором Махно 18/31 мая 1921 г. при налете на село Решетиловку Полтавской области, когда нес домой мешок муки с мельницы. Зарублен на улице "ошибково", так как был простым мирным жителем, хотя и работал каким-то гражданским служащим в военкомате, а его спутали с однофамильцем-милиционером. Как видно, Махно предпочитал сначала рубить, и лишь потом разбираться – кого и за что. «Ничего, ты молодая, найдешь себе мужа еще», – так передавала его слова бабушка, в то время беременная моей матерью на втором месяце.
Чтобы оформить пенсию за мужа, через знакомства удалось выдать его за бывшего "красноармейца". (Об этом я недавно написал статью: Махно, который убил моего деда. ‒ Прим. август 2020.)
Из всей биографии Махно очевидно, что он изначально, с 18 лет, в годы т.н. "первой русской революции", стал революционером ‒ членом "Крестьянской группы анархо-коммунистов", действовавшей в Гуляйполе, участвовал в убийствах, террористических актах и "экспроприациях". Неоднократно арестовывался, в марте 1910 года приговорён к смертной казни через повешение, которая была заменена бессрочной каторгой. Его освободила Февральская революция, после которой он вернулся в Гуляйполе, где стал председателем Совдепа и комиссаром Гуляйпольского района, сформировал боевую дружину "Чёрная гвардия" для экспроприаций, совершившую несколько вооруженных налетов, в сентябре 1917 года провел конфискацию помещичьих и церковных земель. Он активно участвовал в боях красной армии против белых, и лишь в 1920 году, после захвата Крыма и прекращения войны с белыми, Махно стал анархически противодействовать красным властям, совершая налеты на украинские села.
Таким образом, Нестор Махно сыграл в те годы революционной смуты свою главную роль на стороне красных богоборцев в их завоевании Украины и в их победе над белыми, с которыми он никогда не вступал в союз и видел в них главных врагов.
(фото)
Вторым мужем моей бабушки Ефросиньи, отчимом моей матери, стал Кузьма Иванович Кобищан, от него в 1923 году родилась вторая дочь Надежда. Жили они уже в Полтаве (согласно справке 1932 года по адресу: Щербанська вул., буд. 18, снимали жилье у Горбачевой). В это время был голодомор коллективизации, мама рассказывала, что родители боялись отправлять детей играть на улицу из-за людоедства, а однажды у забора их дома умерла женщина, и из ее разжатого кулака на землю посыпалась горсть зерна... Спасаясь от голодомора, Кобищан 1933 году уехал от голода в Сибирь к знакомому и, устроившись работать в Кузнецке (переименованном в 1932 г. в Сталинск) на мясокомбинате (он был ветеринаром), вывез туда семью: мою бабушку с дочерьми и ее сестру Устю (она уже была опухшая от голода). Там Кобищан через несколько лет тоже был арестован и дальнейшая его судьба неизвестна.
Бабушка поначалу работала каменщицей, затем благодаря знакомому мужа устроилась на мясокомбинат.
(фото)
Сталинский мясокомбинат, кишечный цех.
Но после ареста мужа ее уволили с комбината и снова пришлось работать каменщицей, жили в бедности в землянке с собачкой Куклой, которая отгоняла крыс. К счастью, сестра Устя могла с мясокомбината подкармливать семью требухой и хвостами, которые ей удавалось выносить, обматывая вокруг тела. Когда мама поступила в институт, она за хорошую учебу получила Сталинскую стипендию, по тем временам большие деньги, значительно превышавшие зарплату каменщицы, так что и бабушка могла оставила эту тяжелую работу. Возможно, поэтому и ее сестра Устя накануне войны вернулась на Украину, затосковав по родным местам.
+ + +
Таким образом, как я понимаю, диавол попытался уже ранним убийством моих дедов предотвратить рождение их потомства ‒ моих родителей ‒ и тем самым мое рождение, однако Господь не только определил мне родиться, но и обратил диавольские планы в противоположность: антисоветское осмысление мною этого "предбиографического" обстоятельства побудило меня к познанию смысла т.н. "гражданской войны" и революции, а затем к ответному поиску Бога и Его замысла обо мне.
Так моя жизнь и моя биография начиналась в моих дедах.
Родители
Мои родители познакомились во время учебы в институте в Сталинском металлургическом институте, который оба закончили с отличием, и поженились в сентябре 1944 года (хотя, судя по их письмам друг другу, возможно, еще без официального оформления брака?). Их сблизило то, что оба росли без отцов.
Судя по сохранившимся фотографиям, накануне войны жизнь моих родителей-студентов была довольно насыщенной и потому счастливой. Они занимались лыжным спортом (мама несколько раз выигрывала первенство Новосибирской области в командных соревнованиях и выполнила норму мастера спорта). Есть фотографии из альпинистского лагеря близ Алмааты, а также на занятиях в радиокружке. Они искренне мечтали о построении счастливого будущего и жили с кодексом чести, позже сформулированным в "Кодексе строителей коммунизма". Личные чувства в общении их были честны, вдохновенны и высоки, ‒ как в советских художественных фильмах ‒ но далеки от духовного осознания подлинного смысла жизни, который в СССР считался "реакционным". За это в те же страшные годы советская власть убила "безбожной пятилеткой" и превентивными чистками миллионы "врагов народа". Вот так даже из детей "врагов народа" коммунистическая диктатура формировала нового советского человека, оторванного от всей русской истории и национальной культуры, и от Бога.
Как это ни парадоксально, клеймо дважды "сына врага народа", вероятно, спасло моего отца от гибели в советско-германской войне. После школы отец хотел поступить в летное училище, но его не приняли из-за такого происхождения. Пришлось поступить в местный металлургический институт. К началу войны отцу исполнилось 20 лет, и он сам пошел в военкомат для отправки на фронт, но его не взяли, так как решением правительства металлурги, даже студенты, призыву не подлежали: они были нужны для обороны. В военной мясорубке мало кому удалось остаться в живых из призывов первых военных лет: советское командование солдат не жалело, по образному выражению ‒ заваливая врага трупами. Так отец всю войну проучился в Сталинске, стараясь по долгу совести оправдать свое нахождение в тылу ответственной учебой. (Даже сейчас удивляюсь, как мои родители до конца жизни сохраняли приобретенные в институте знания, легко решая математические задачи и разбираясь в технических устройствах.)
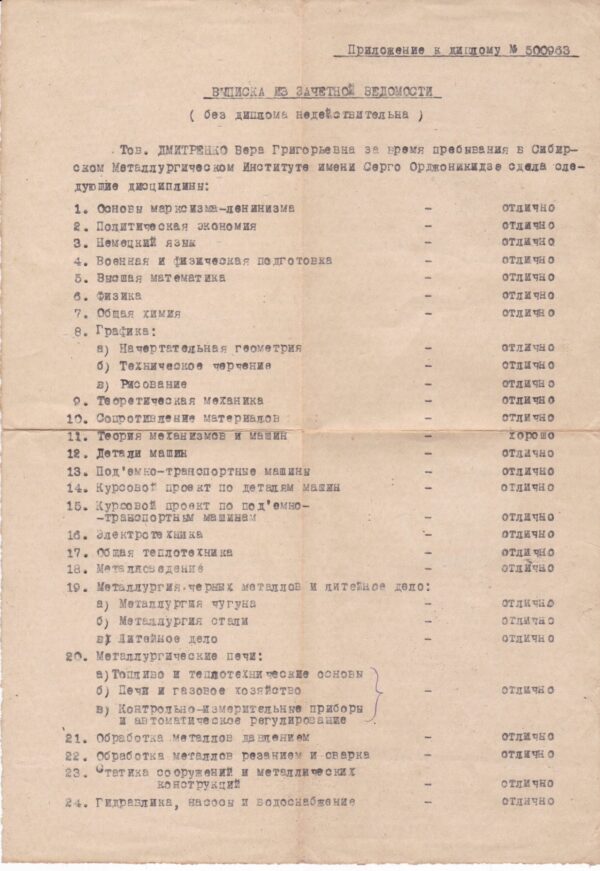
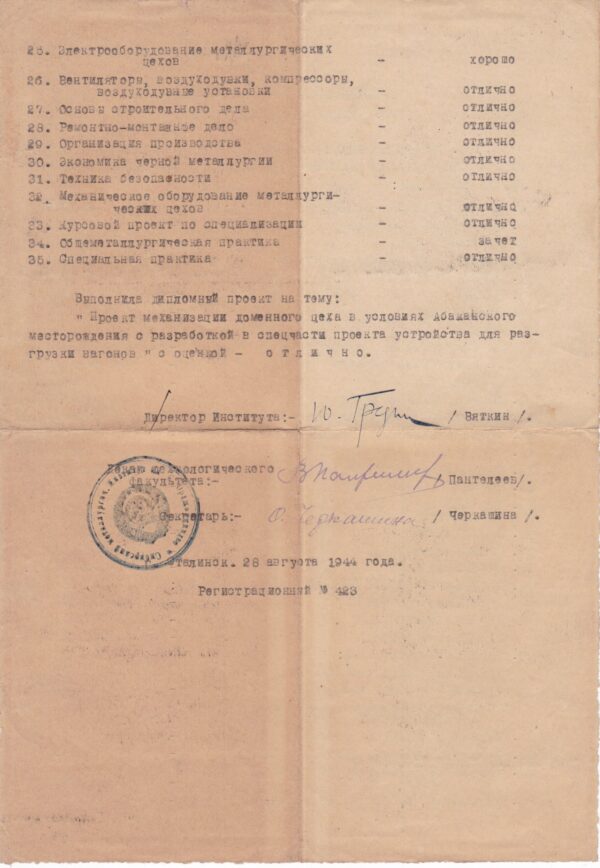
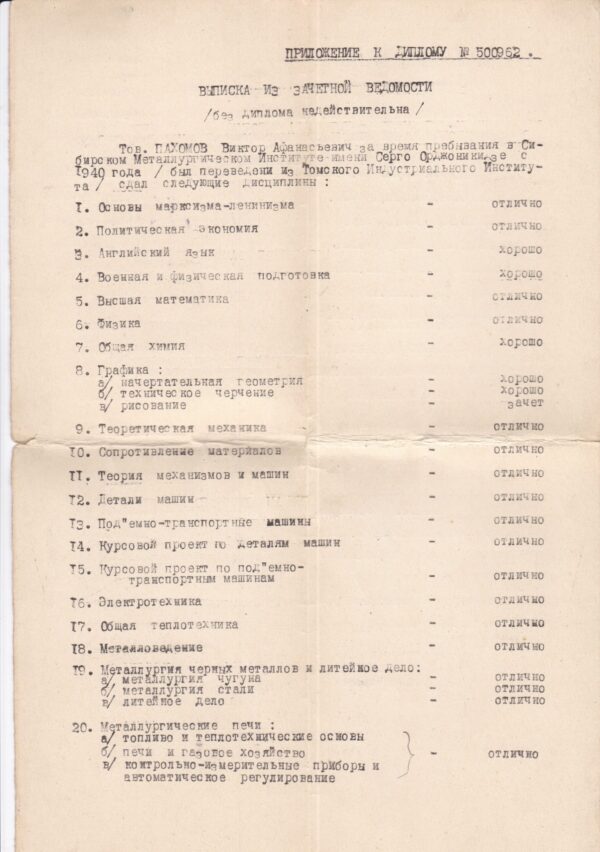
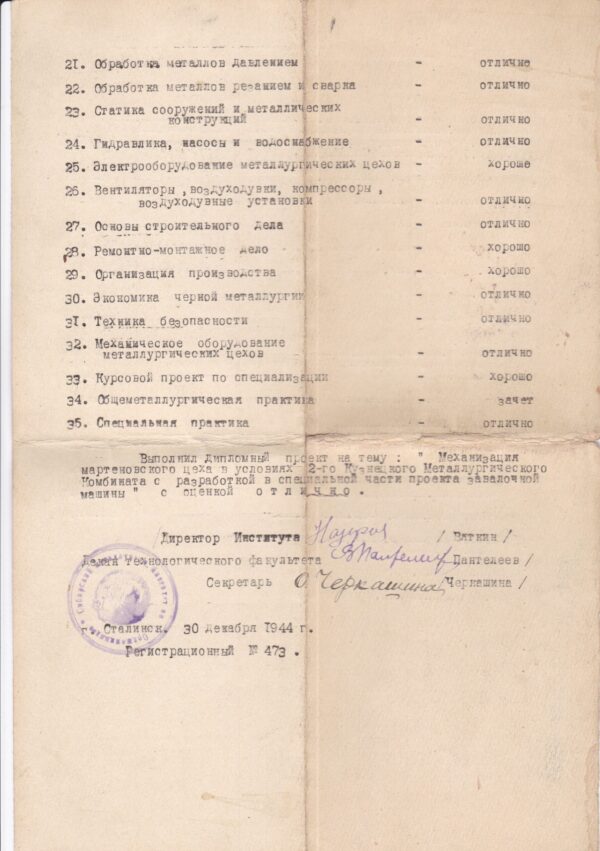
Дипломные оценки мамы и отца
(см. пред. страницу)
1. МОИ ПРЕДКИ ‒ ЭТО КОРНЕВАЯ ЧАСТЬ МОЕЙ БИОГРАФИИ
Прошло три года. Не знаю, соберусь ли с силами – и когда – чтобы приступить к таким воспоминаниям. Думаю, что еще не созрел для должного выполнения этой задачи, пока не выполнил некоторые, поставленные себе ранее. А их невыполнение – в некотором роде поражение от собственной лени и слабостей.
Однако я чувствую, что Господь Бог имеет обо мне Свой замысел, который меня обязывает к движению в заданном направлении. Думаю, что каждый человек может обнаружить в своей биографии некоторые доказательства того, что Замысел этот о нем, о каждом из нас, существует, иначе бы жизнь каждого из нас уже не раз давно закончилась бы как безсмысленная и безнадежная. Или даже вообще не началась бы, как в моем случае: оба моих родителя, отец и мать, появились на свет уже после того, как их отцы были убиты в т.н. гражданской войне (точнее: при оккупации России сатанистами-богоборцами). Это первый очевидный факт в моей биографии, свидетельствующий о том, что "мiр во зле лежит", и от этого кромешного зла, выплеснувшегося в революции, Господь для чего-то помогал мне выкарабкиваться на свет Божий.
Назаровы и Рузины. Пахомов
Отец моего деда, мой прадед Леонид Иванович Назаров был сельским писарем в пригородном селе Ильинское близ г. Кузнецка (Томской губернии), но, видимо, его сноха ‒ моя бабушка-атеистка, постеснялась сказать мне, что он принял сан священника (это позже я узнал от своего отца) и именно поэтому был убит красными партизанами-роговцами (под руководством Г.Ф. Рогова ) при их погроме Кузнецка 9 декабря 1919 г. после оставления города белыми частями. (Вероятно, он стал священником не ранее 1918 года, когда в связи с начатыми гонениями большевиков на Церковь по призыву Патриарха Тихона стали повсеместно рукополагать духовенство без внесения его в официальные списки. И его следует считать принадлежащим к сонму Новомучеников этого периода.)
В историю гражданской войны это "триумфальное шествие" советской власти в Кузнецке вошло как "погром кузнецкой интеллигенции". «Убивали без разбора по социальному признаку. Из четырёх тысяч жителей Кузнецка две тысячи легли на его улицах. Погибли они не в бою. Их, безоружных, просто вывозили из домов, тут же у домов, у ворот раздевали и зарубали шашками. Особо "именитых" и "лиц духовного звания" убивали в Преображенском соборе. Редкая женщина или девушка избегала гнусного насилия. Рубились люди по "классовому признаку": руки мягкие – руби…» (В.Зазубрин. "Неезжеными дорогами", 1926). Моего прадеда роговцы заставили бежать от храма на гору вблизи "Островскóй площадки" (до большевиков она называлась: село Христорождественское ‒ одна из исторических частей старого города) и убили разрывной пулей в затылок, его жена Матрена собрала разлетевшийся мозг в платочек... Моя бабушка как учительница тоже относилась к уничтожаемой "классовой" категории, но ее отец, портной Павел Яковлевич Рузин, спрятал ее в подвале.
Мой дед Виктор Леонидович Назаров. Сведений о нем у меня очень мало: послужной список времени Великой (первой мiровой) войны в Российском государственном военно-историческом архиве. Из него следует, что родился он 10 сентября 1895 г., «из мещан гор. Ново-Николаевска... выдержал испытание при Томском реальном Алексеевском училище на вольноопределяющегося II разряда и прошел 3-х месячный курс при томской школе прапорщиков... 10 мая 1916 года произведен в прапорщики... зачислен в 37 сибирский стрелковый запасной полк». В этот день и был открыт его офицерский послужной список, но дальнейших сведений в нем нет, в том числе о производстве в следующий чин, о командировке «вглубь ...ских степей за киргизами» (так он писал оттуда родителям на открытке с видом Петропавловска, 30.7.1916), и затем о нахождении на фронте в Галиции, откуда позже пришла его открытка с видом г. Коломыя.
По возвращении с фронта мой дед и бабушка Вера поженились, во время белой власти в Сибири он служил в армии адмирала А.В. Колчака, где, в частности, командовал отрядом при подавлении красных выступлений в белом тылу. После хаотичного отступления белых мой дед некоторое время скрывался в Кузнецке в доме Рузиных (у бабушки). После объявления амнистии явился в советские органы власти и был расстрелян в 1920 году.
В начале 2000-х годов Новокузнецкий краеведческий музей устроил большую выставку жизни нашей семьи ‒ поскольку в ней, благодаря моей бабушке-учительнице Вере Павловне Рузиной, сохранилось много фотографий, переписки и разных сведений об общественной жизни и интеллигенции Кузнецка в первые десятилетия ХХ века, тогда маленького уездного городка; была и передача по местному телевидению. Выставка размещалась в двух комнатах и называлась "ХХ век. Судьбы кузнецкой интеллигенции" (позже она была передана в музей гимназии, где учился мой дед и преподавала бабушка). Руководство музея обратилось в Кемеровское ФСБ (бывшее ЧК- НКВД-МГБ-КГБ) с просьбой выдать материалы расстрельного дела моего деда, но получило отказ, поскольку В.Л. Назаров "не реабилитирован" и потому сведения о таких преступниках не выдаются: «Назаров В.Л. реабилитации не подлежит, сообщить какие-либо сведения о его судьбе не представляется возможным» (6.06.2000).
Сотрудники музея и Управление культуры администрации г. Новокузнецка подали в суд прошение о реабилитации, но и там получили отказ со следующей мотивировкой: «Назаров признан виновным в том, что он, будучи подпоручиком Царской Армии, в 1918 г. был мобилизован на военную службу в Армию Колчака и назначен командиром карательного отряда. Находясь в этой должности, Назаров производил аресты, обыски и порки граждан, отдавал приказы о расстреле красноармейцев» (Постановление Президиума Кемеровского областного суда от 2.12.2002 под председательством В.М. Вьюнова по заявлению сотрудников Новокузнецкого краеведческого музея).
Из перечисленных далее в этом постановлении фактов и показаний свидетелей упоминается только один (!) случай расстрела красноармейца по приказу В.Л. Назарова в апреле 1919 года, причем не указано, за какое преступление (возможно расстрелянный того вполне заслужил). За эти "зверства" мой дед и был расстрелян, а тело выброшено на свалку, как рассказывала мне бабушка. На мой вопрос: почему он стал на сторону белых, а не красных, бабушка ответила: он считал, что красные ‒ враги России. «Реабилитации не подлежит», – ответили на запрос упомянутые Кемеровское ФСБ и Кемеровский суд.
Вот и всё. Нет даже его фотографии – многое бабушка уничтожила из опасения дальнейших большевицких репрессий, а немногое спрятанное было уничтожено наводнением (так она мне говорила).
(Аналогично власти РФ отказали и в реабилитации адмирала Колчака, поскольку в советской историографии, для оправдания красного террора как якобы оборонительного от "белого террора", он приписывается именно Колчаку. Хотя ничего подобного как предписанной сверху документами карательной политики по отношению к населению в белых армиях не было ‒ в отличие от большевиков. Напомню: ими были опубликованы в июле 1918 г. подписанный Лениным всесоюзный декрет Совнаркома о преследовании т.н. "антисемитизма": «Совнарком предписывает всем Совдепам принять решительные меры к пресечению в корне антисемитского движения. Погромщиков и ведущих погромную агитацию предписывается ставить вне закона», что означало: расстреливать (Известия. 1918. 27 июля), а в сентябре ‒ знаменитый Декрет о красном терроре (5 сентября 1918 г.). При этом член коллегии ВЧК Лацис дал печатное указание в чекистском еженедельнике "Красный террор": «Не ищите в деле обвинительных улик о том, восстал ли он против Совета оружием или словом. Первым долгом вы должны его спросить, к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, какое у него образование и какова профессия. Эти вопросы должны разрешить судьбу обвиняемого. В этом – смысл и суть красного террора» (Красный террор. Казань, 1918. № 1. 1 нояб. – Цит. по: Правда. 1918. 25 дек. С. 1.).
С моей точки зрения, ни Колчак, ни его офицер – мой дед, отдавшие свои жизни за историческую Россию, совершенно не нуждаются в реабилитации от нынешних нелегитимных правителей, преемников тогдашней нелегитимной большевицкой власти, – утешил я сотрудников музея.) Лишь при посредничестве московского Общества "Мемориал", куда обратились музей и администрация города, удалось узнать дату приговора (постановление Петропавловской уездной Чрезвычайной комиссии от 6 июля 1920 г.), она, возможно, является и датой расстрела – у Святого колодца под Кузнецком. Это место я посетил в 2000-м году...
В семье Назаровых (в с. Ильинском под Кузнецком) были дети, помимо моего деда Виктора: Петр, Михаил, Анатолий, Владимiр, Ираида. Согласно рассказам бабушки и записям моего отца, Михаил пропал безследно в 1920 году. Петр "был репрессирован, видимо, из-за брата Виктора". Чтобы избежать репрессий из-за родственной связи с расстрелянным Виктором, они переехали в Прокопьевск (оттуда перед войной в Бийск). Мой отец Виктор ездил к ним с матерью. Тетя Рая (Ираида) была замужем за Черемных (?), у них была дочь Тамара (?) и сын.

На фото мой отец (второй слева) со своими дядями в Прокопьевске в 1931 г. Справа внизу Вера Павловна. Стоит Мыльников, двоюродный брат А.И. Пахомова.

Мой отец (слева) с дядей Анатолием Леонидовичем Назаровым. Во время его приезда в Кузнецк примерно в 1935-1937 гг.
Мой отец Виктор Назаров родился после смерти его отца, в выписке из актов гражданского состояния написано: 11 апреля 1921 года, «отец умер» (в паспорте позже была указана дата рождения 1 мая 1921 г. ‒ советский праздник). Ни та, ни другая дата не могут быть подлинными, учитывая дату приказа о расстреле В.Л. Назарова (6.7.1920), а до этого он находился под следствием (ведь опрашивали свидетелей). Отец мне говорил, что бабушка записала его с более поздней датой рождения из политических соображений, возможно, чтобы снять с него ответственность за отца; мне она говорила, что на отца он очень похож внешне).
+ + +

Отчим моего отца Афанасий Игнатьевич Пахомов во время Первой мiровой войны. 1915 г., Чугуевское военное училище.
В 1922 году вторым мужем моей бабушки стал Афанасий Игнатьевич Пахомов (род. 25.11.1888) , он тоже был офицером, выпускником Чугуевского училища. Согласно записям в послужном списке, 1 мая 1916 г. произведен в прапорщики, 14 февраля 1917 г. в подпоручики (командир роты), 9.8.1917 ‒ в поручики. Был участником германской войны (на румынском фронте), затем в армии Колчака. В советское время стал учителем географии, истории и математики в педагогическом техникуме г. Кузнецка. От него родились два брата моего отца: Вячеслав (стал "Заслуженным металлургом") и Юрий (в 11 лет у него отнялись ноги из-за полиомелита, он стал известен на своей улице как мастер на все руки по бытовой технике).
Мой отец носил фамилию Назаров до 16-летнего возраста, есть свидетельство о его усыновлении А.И. Пахомовым 11 октября 1937 года.
Афанасий Игнатьевич был арестован в 1938 году без дальнейших известий о его судьбе (что тогда означало: расстрел). В начале хрущевской десталинизации, 22 сентября 1957 года Кемеровский областной суд прислал бабушке "Справку о реабилитации" А.И. Пахомова. Бабушка получила также документ ‒ Свидетельство о его смерти, якобы последовавшей 25 ноября 1940 года по причине "острого пеанкреотита" ‒ что было ложью, так даже при Хрущеве старались приуменьшить карательный террор, сводя его в основном к невинно репрессированным членам партии.
Однако 1 ноября 1999 года Управление ФСБ по Кемеровской области прислало моему дяде-инвалиду Юрию Афанасьевичу такое письмо (привожу с сохранением орфографии):
«На Ваше заявление сообщаем, что согласно архивному делу № 3387 Ваш отец Похомов [так написано здесь и далее, с ошибкой. ‒ М.В.Н.] Афанасий Игнатьевич, 1888 года рождения уроженец д. Искомучна Мендилинского контона Татарской АССР, арестован 30 января 1938 года Стлинским ГО НКВД. До ареста проживал в гор. Сталинске. Состав семьи (на день ареста): жена ‒ Похомова Вера Павловна, 1896 года рождения, дети ‒ Похомов Виктор, 16 лет, Похомов Вячеслав, 12 лет, Похомов Юрий, 10 лет ‒ все проживали вместе с отцом.
Похомов А.И. был обвинен в том, что являлся активным участником монархической повстанческой организации. Постановлением тройки УНКВД Новосибирской области от 7 февраля 1938 года осужден по ст. 58-2, 8,9,11 УК РСФСР к расстрелу с конфискацией имущества. Постановление о расстреле приведено в исполнение 13 февраля 1938 года.... после ареста содержался в Старокузнецкой тюрьме.
В выданном Вам свидетельстве о смерти от 22 мая 1958 года дата и причина смерти не соответствует действительности...
Постановлением Президиума Кемеровского областного суда от 22 июля 1957 года № ПС-485 Афанасий Игнатьевич реабилитирован (посмертно) за отсутствием состава преступления...»
Фамилию Пахомов я носил первую половину жизни, сейчас ее носят мои дети. (Фамилию Назаров, которую использовал в эмиграции, официально восстановил в 1993 году, получая паспорт РФ в Мюнхене.)
+ + +
Предки моей сибирской бабушки Веры Павловны Рузиной происходили из с. Мотовилово Арзамасского уезда Нижегородской губернии; ее дед Яков Михайлович Ермолаев 25 лет прослужил в армии, фамилию Рузин получил на русско-турецкой войне 1877 г. от названия речки Руза, где проявил храбрость. Сохранились фотографии семьи Рузиных.

Семья Рузиных, вероятно г. Кузнецк, фото – конец XIX века. В верхнем ряду в центре – мой прапрадед Яков Михайлович Рузин (первая фамилия – Ермолаев, выходец из с. Мотовилово Арзамасского уезда Нижегородской губернии; 25 лет прослужил в армии, фамилию Рузин получил на русско-турецкой войне 1877 г. от названия речки Руза, где проявил храбрость). Рядом с ним слева – мой прадед Павел Яковлевич Рузин. Рядом с ним крайняя слева – его жена моя прабабушка Наталия Николаевна (ур. Колокольцóва). Крайняя справа в нижнем ряду – моя прапрабабка Степанида Михайловна Рузина, мать Павла Яковлевича. Крайний слева сидит – мой прапрапрадед Михаил, отец или Якова Михайловича или его жены Степаниды Михайловны. В центре нижнего ряда – жена Михаила, моя прапрапрабабка.

Семья П.Я. Рузина. Верхний ряд: крайняя слева стоит моя бабушка Вера, Яков, Зоя, Серафима. Сидят Павел Яковлевич и Наталья Николаевна. Нижний ряд: Таисия, Константин, Анфия, Александра. Кузнецк, 1916 г.
Мой прадед Павел Яковлевич Рузин (1875‒1937), согласно записям моего отца ‒ «был первоклассный портной. Этому ремеслу он обучил и всех своих детей. Однако они работали по другой специальности (многие ‒ учителями). Дедушка шил одежду и для губернатора. Несмотря на то, что он очень много пил, он хорошо зарабатывал, полностью обезпечивал большую семью, имел хороший дом, лошадей, корову и т.д... Последние годы его, видимо, принудили вступить в артель "Игла", где он работал закройщиком. Образ жизни вел прежний, но его не выгоняли, т.к. такого другого такого мастера в Строкузнецке не было. Он умер в возрасте 62 лет... Хоронили его на новом кладбище ‒ на горе. Народу было много. были признесеня речи».
В своих записях мой отец подробно рассказывает о сестрах и братьях моей бабушки и их семьях, но тут приводить это не стану.
Дмитренко и Бережецкие
Предки моей бабушки со стороны матери ‒ Бережецкие ‒ происходили из малороссийского казачества (в справке моей бабушки о ее социальном положении в 1926 году указано: казачка, причем документы она подписывала как Дмитренкова). Отец моей бабушки Ефросиньи ‒ Митрофан, его отец и три его брата держали лошадей и сапожничали, жили в селе Решетиловка Полтавской губернии. У Митрофана были сыновья Антон, Ларион (1890 г.р.), Устинья (1895 г.р.) и моя бабушка Ефросинья (1900 г.р.). (Отдельно я составил родословную схему всех известных мне Бережецких.)

Родители моей матери: Григорий Кузьмич Дмитренко и Ефросиния Митрофановна (ур. Бережецкая, из малороссийского казачества), с. Решетиловка Полтавской губернии, 24 июля 1919 г.
Отец моей матери Веры, малоросс Григорий Кузьмич Дмитренко, как рассказывала бабушка Ефросиния, был зарублен красным анархистом Нестором Махно 18/31 мая 1921 г. при налете на село Решетиловку Полтавской области, когда нес домой мешок муки с мельницы. Зарублен на улице "ошибково", так как был простым мирным жителем, хотя и работал каким-то гражданским служащим в военкомате, а его спутали с однофамильцем-милиционером. Как видно, Махно предпочитал сначала рубить, и лишь потом разбираться – кого и за что. «Ничего, ты молодая, найдешь себе мужа еще», – так передавала его слова бабушка, в то время беременная моей матерью на втором месяце.
Чтобы оформить пенсию за мужа, через знакомства удалось выдать его за бывшего "красноармейца". (Об этом я недавно написал статью: Махно, который убил моего деда. ‒ Прим. август 2020.)
Из всей биографии Махно очевидно, что он изначально, с 18 лет, в годы т.н. "первой русской революции", стал революционером ‒ членом "Крестьянской группы анархо-коммунистов", действовавшей в Гуляйполе, участвовал в убийствах, террористических актах и "экспроприациях". Неоднократно арестовывался, в марте 1910 года приговорён к смертной казни через повешение, которая была заменена бессрочной каторгой. Его освободила Февральская революция, после которой он вернулся в Гуляйполе, где стал председателем Совдепа и комиссаром Гуляйпольского района, сформировал боевую дружину "Чёрная гвардия" для экспроприаций, совершившую несколько вооруженных налетов, в сентябре 1917 года провел конфискацию помещичьих и церковных земель. Он активно участвовал в боях красной армии против белых, и лишь в 1920 году, после захвата Крыма и прекращения войны с белыми, Махно стал анархически противодействовать красным властям, совершая налеты на украинские села.
Таким образом, Нестор Махно сыграл в те годы революционной смуты свою главную роль на стороне красных богоборцев в их завоевании Украины и в их победе над белыми, с которыми он никогда не вступал в союз и видел в них главных врагов.
(фото)
Вторым мужем моей бабушки Ефросиньи, отчимом моей матери, стал Кузьма Иванович Кобищан, от него в 1923 году родилась вторая дочь Надежда. Жили они уже в Полтаве (согласно справке 1932 года по адресу: Щербанська вул., буд. 18, снимали жилье у Горбачевой). В это время был голодомор коллективизации, мама рассказывала, что родители боялись отправлять детей играть на улицу из-за людоедства, а однажды у забора их дома умерла женщина, и из ее разжатого кулака на землю посыпалась горсть зерна... Спасаясь от голодомора, Кобищан 1933 году уехал от голода в Сибирь к знакомому и, устроившись работать в Кузнецке (переименованном в 1932 г. в Сталинск) на мясокомбинате (он был ветеринаром), вывез туда семью: мою бабушку с дочерьми и ее сестру Устю (она уже была опухшая от голода). Там Кобищан через несколько лет тоже был арестован и дальнейшая его судьба неизвестна.
Бабушка поначалу работала каменщицей, затем благодаря знакомому мужа устроилась на мясокомбинат.
(фото)
Сталинский мясокомбинат, кишечный цех.
Но после ареста мужа ее уволили с комбината и снова пришлось работать каменщицей, жили в бедности в землянке с собачкой Куклой, которая отгоняла крыс. К счастью, сестра Устя могла с мясокомбината подкармливать семью требухой и хвостами, которые ей удавалось выносить, обматывая вокруг тела. Когда мама поступила в институт, она за хорошую учебу получила Сталинскую стипендию, по тем временам большие деньги, значительно превышавшие зарплату каменщицы, так что и бабушка могла оставила эту тяжелую работу. Возможно, поэтому и ее сестра Устя накануне войны вернулась на Украину, затосковав по родным местам.
+ + +
Таким образом, как я понимаю, диавол попытался уже ранним убийством моих дедов предотвратить рождение их потомства ‒ моих родителей ‒ и тем самым мое рождение, однако Господь не только определил мне родиться, но и обратил диавольские планы в противоположность: антисоветское осмысление мною этого "предбиографического" обстоятельства побудило меня к познанию смысла т.н. "гражданской войны" и революции, а затем к ответному поиску Бога и Его замысла обо мне.
Так моя жизнь и моя биография начиналась в моих дедах.
Родители
Мои родители познакомились во время учебы в институте в Сталинском металлургическом институте, который оба закончили с отличием, и поженились в сентябре 1944 года (хотя, судя по их письмам друг другу, возможно, еще без официального оформления брака?). Их сблизило то, что оба росли без отцов.
Судя по сохранившимся фотографиям, накануне войны жизнь моих родителей-студентов была довольно насыщенной и потому счастливой. Они занимались лыжным спортом (мама несколько раз выигрывала первенство Новосибирской области в командных соревнованиях и выполнила норму мастера спорта). Есть фотографии из альпинистского лагеря близ Алмааты, а также на занятиях в радиокружке. Они искренне мечтали о построении счастливого будущего и жили с кодексом чести, позже сформулированным в "Кодексе строителей коммунизма". Личные чувства в общении их были честны, вдохновенны и высоки, ‒ как в советских художественных фильмах ‒ но далеки от духовного осознания подлинного смысла жизни, который в СССР считался "реакционным". За это в те же страшные годы советская власть убила "безбожной пятилеткой" и превентивными чистками миллионы "врагов народа". Вот так даже из детей "врагов народа" коммунистическая диктатура формировала нового советского человека, оторванного от всей русской истории и национальной культуры, и от Бога.
Как это ни парадоксально, клеймо дважды "сына врага народа", вероятно, спасло моего отца от гибели в советско-германской войне. После школы отец хотел поступить в летное училище, но его не приняли из-за такого происхождения. Пришлось поступить в местный металлургический институт. К началу войны отцу исполнилось 20 лет, и он сам пошел в военкомат для отправки на фронт, но его не взяли, так как решением правительства металлурги, даже студенты, призыву не подлежали: они были нужны для обороны. В военной мясорубке мало кому удалось остаться в живых из призывов первых военных лет: советское командование солдат не жалело, по образному выражению ‒ заваливая врага трупами. Так отец всю войну проучился в Сталинске, стараясь по долгу совести оправдать свое нахождение в тылу ответственной учебой. (Даже сейчас удивляюсь, как мои родители до конца жизни сохраняли приобретенные в институте знания, легко решая математические задачи и разбираясь в технических устройствах.)
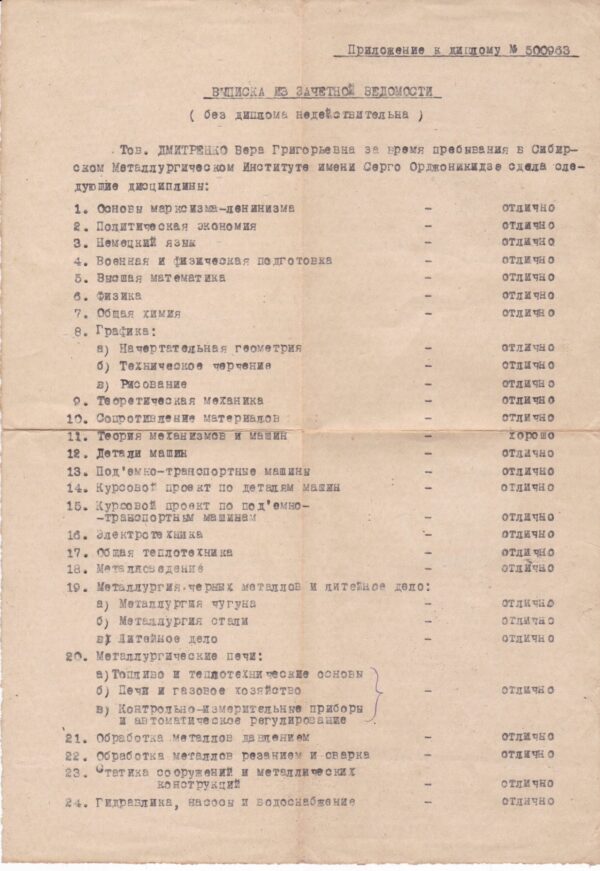
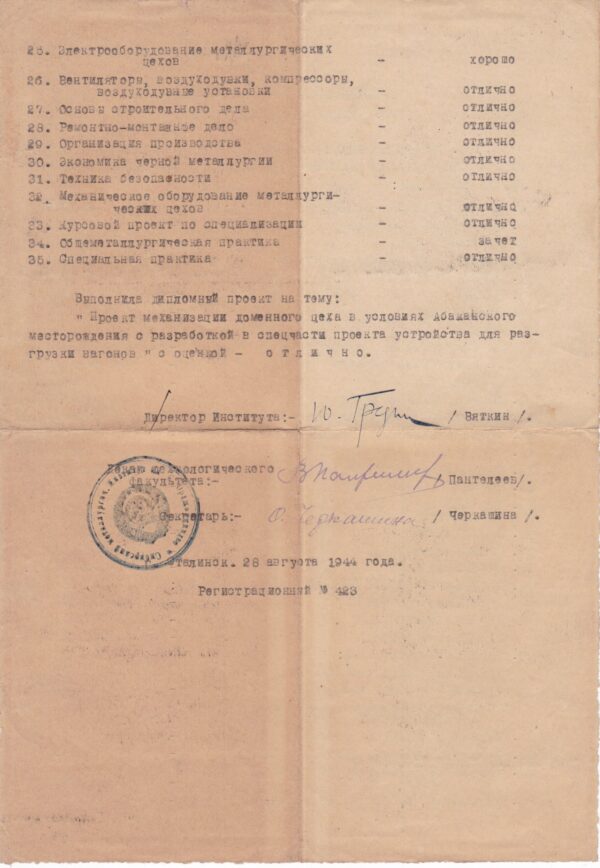
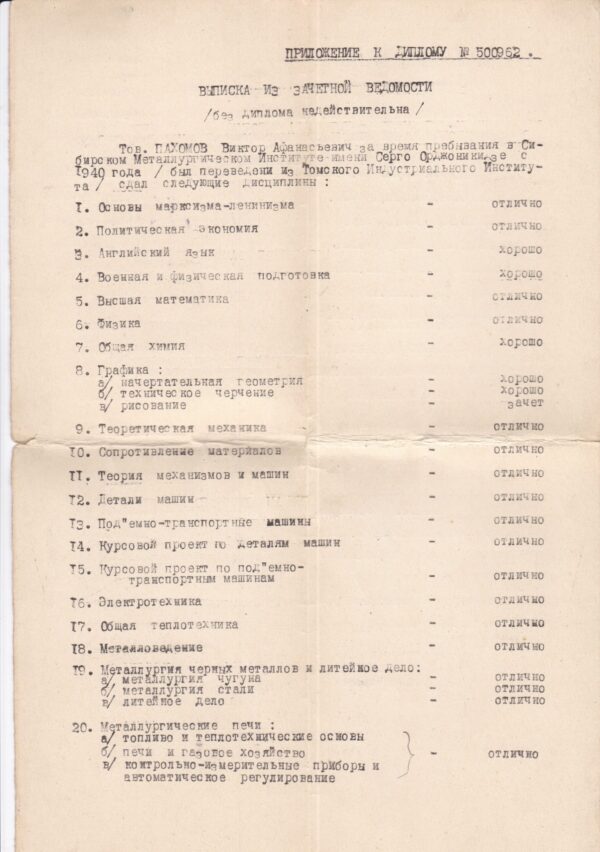
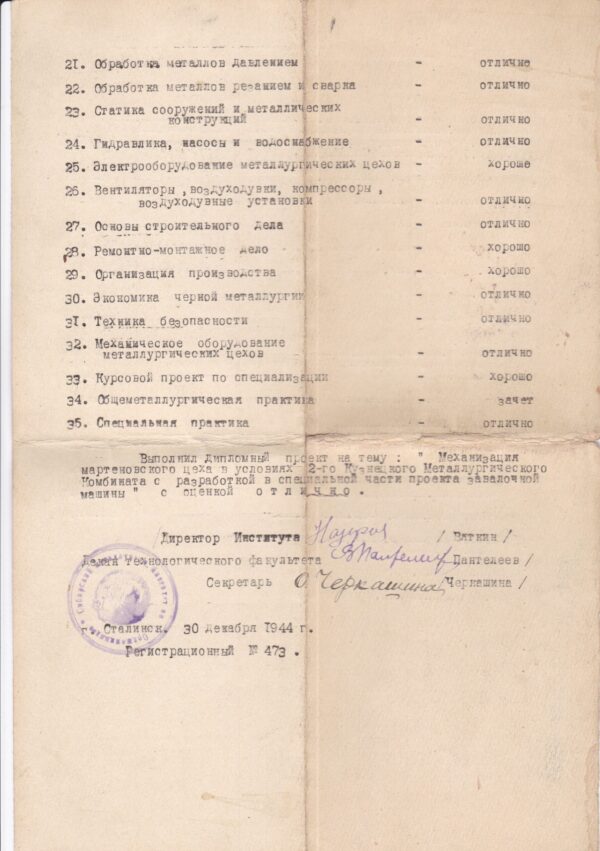
Дипломные оценки мамы и отца
-

М.В. Назаров - Администраторы
- Сообщения: 7247
- Зарегистрирован: Вс окт 01, 2006 7:54 pm
- Откуда: Москва
Re: Ваша биография
2. ДЛЯ ЧЕГО НАМ ПОДАРЕНО ДЕТСТВО. МАКЕЕВКА
Опыт моего детства
Кто-то скажет: какой еще опыт может дать раннее детство, самая неразумная пора жизни?
Но оно очень необычно и неповторимо тем, что таинственно возникшее в мiре из ничего самосознание человека, еще не зная толком, что оно из себя представляет, и, исходя из своего инстинктивного разума, начинает познавать чудо окружающего мiра и себя в этом мiре. Ребенок видит мiр глазами первооткрывателя, не так, как привыкший к нему взрослый, поэтому дети часто задают необычные и смешные вопроса. Еще не возникает главного вопроса: для чего я в этом мiре? ‒ но выполняется какая-то предварительная программа, исконно заложенная в родившемся маленьком разумном существе, в его теле и в чувствах, которыми оно обладает.
Опыт бытия постепенно нарастает, как снежный шар, который время катит по пустырю, а в нем уже живут, зачем-то снуют туда-сюда большие люди, даже на железных машинах и трамваях, и этот детский шар вместе со снегом вбирает в себя также комочки земли, опавшие листья и отмершие стебли травы, искореженные железки, окурки и прочий мусор, от которого шар стараются очищать родители (в моем детстве ‒ полтавские бабушки-сестры Ефросиния и Устиния (урожденные Бережецкие из малороссийского казачества), так как родители основное время проводили на заводе; с родителями, во дворе, в детском саду я говорил по-русски, а с бабушками, как они: по-украински, но я не ощущал это языком, отдельным от русского, и он был не такой, какой слышу сейчас в украинской Раде).
А уже во взрослом возрасте мы осмысляем запечатленный памятью детский опыт, дающий много первичной познавательной информации о смысле жизни. Мне также интересно сейчас понять, как и в чем на мою биографию повлияло мое детство (куда я включаю Макеевку и Бешпагир). Мне также хотелось бы этим дать внукам и свидетельство о советской эпохе, которую власти РФ ныне пытаются приукрасить.
Макеевка Сталинской области
Макеевский металлургический завод им. Кирова (это был видный большевик, который не имел никакого отношения ни к Макеевке, ни к металлургии) располагался вплотную к нашим жилым домам (наша квартира была на втором этаже, не помню, был ли третий) на улице, которая сейчас называется тоже им. Кирова. Невольно вспоминаются начальные кадры советского "перестроечного" фильма "Маленькая Вера", когда ребенок качается на качелях и рядом с детской площадкой проезжают грузовые железнодорожные вагоны ‒ в фильме, это, если не ошибаюсь, было близ металлургического завода в Мариуполе, примерно то же было в моем детстве в Макеевке. За нашим домом начиналась эстакада, проходившая над заводскими железнодорожными путями, по которым порою проезжали такие вагоны, груженые раскаленным шлаком или коксом с кисловатым запахом.
Недавно я нашел наш дом на карте мiра на глобальной карте Гугля и поразился размерам завода сверху ‒ это был настоящий монстр длиной в несколько километров, во много раз превосходивший своими размерами расположенные рядом жилые кварталы.
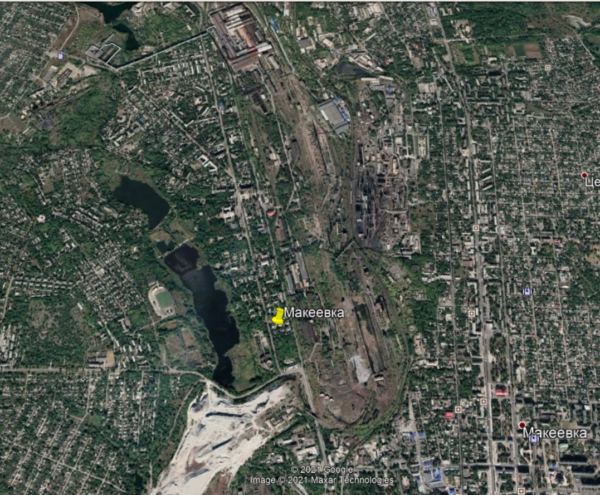
Желтым значком отмечен наш дом, справа от него серая территория завода, протянувшегося с юга на север, еще дальше направо ‒ центральная часть города.
Сейчас, в результате послесоветской Великой криминальной революции, этот монстр уже мертв: краеведы в интернете пишут, что гигантский комбинат порезали на металлолом, остались в основном руины с жалкими остатками промышленной жизни между ними: «К 2009 году с ликвидацией доменных и мартеновских печей комбинат превратился в Макеевский прокатный завод, а ещё через несколько лет, когда тут остались лишь вспомогательные цеха и коксохим ‒ в Макеевский филиал Енакиевского металлургического завода». (Много современных фотографий Старой колонии и ее руин можно посмотреть в интернете: это места моего макеевского детства.)
Сохранились еще шлаковые отвалы ‒ искусственная гора из "объедков", оставшихся от выедания богатых недр, которыми наделена эта земля и которые привлекли сюда людей для использования их в своей цивилизации.
Справка из Википедии и др. источников.
Официальной датой основания города Макеевки считается дата первого упоминания в 1690 году поселения запорожских казаков Ясиновка (сейчас поселок городского типа, подчинённый Макеевскому горсовету). В 1787 году возникла слобода Макеевская (позже посёлок Макеевка, с 1965 года включён в территорию Горняцкого района города). Название производят от имени казака Макея.
В 1815 году Макеевская слобода стала центром вновь созданной Макеевской области. До середины XVIII территория южнее Бахмута находилась под контролем Крымского ханства и оседлое население здесь практически отсутствовало. Заселение этих территорий началось лишь после окончания русско-турецкой войны 1735‒1739 гг., результаты которой были окончательно закреплены после войны 1768-1774 гг. по мирному договору 1774 года, когда Крымское ханство (осколок татарской Орды, завоевавшей Русь в XVIII веке) было подчинено России и Приазовье вошло в состав Российской Империи. В конце XVIII века эти, в основном пустовавшие ранее, земли были заселены казачьими станицами и поделены на губернии, при этом территория нынешней Макеевки была отнесена к области казачьего Войска Донского.
Донбасс был поделен между Екатеринославской губернией и Областью Войска Донского так, что угольные пласты тянулись и соответственно промышленность росла как раз по их границе. Здесь она проходила по реке Кальмиус, от истоков его поворачивала на восток, поэтому Юзовка (и 3/4 нынешнего Донецка) относились к Екатринославщине, а 4/5 нынешней Макеевки ‒ к области Войска Донского. В те времена большей частью "донской" половины будущего Донбасса владел род Иловайских, дворян из казачьей старшины, возводившей свою родословную к основателю Макеевской слободы ‒ казаку Макею.
В середине XIX века в районе нынешней Макеевки началась добыча каменного угля. Началось строительство шахт, которые в 1859 году были объединены в Макеевский каменноугольный район. В 1885 году предпринимателем И.Г. Иловайским было начато сооружение труболитейного завода. Сначала уголь вывозили подводами на гужевом транспорте (на волах и лошадях). Первые железные дороги на территории района были проложены между Иловайском и Ханженково (1869 год), Ясиноватой и Криничной.
В 1897-1898 годах французское "Генеральное общество чугуноплавильных, железоделательных и сталелитейных заводов России" начало грандиозного металлургического завода "Унион" строительство близ Макеевой слободы. Старая колония, давшее началу современному городу, была построена на рубеже XIX¬‒XX веков вместе с заводом.
К 1911‒1913 годам макеевским заводом "Унион" производилось 235,8 тыс. тонн чугуна, 169,9 тыс. тонн стали, 128,7 тыс. тонн проката, кроме того, завод приобрёл угольные шахты. Так казачье поселение превратилось в крупный промышленный центр России привлекавший заработками, несмотря на трудные условия шахтерской работы, стекавшихся туда рабочих, на которых делали ставку революционеры в своей пропаганде.
Во время Февральской революции, как и везде, поначалу верховодили меньшевики и эсеры, большевики были непопулярны своей военно-пораженческой агитацией, но благодаря щедрому германскому финансированию к концу 1917 года они всё больше доминировали в Советах по всей стране. Захватив власть в столице, большевики на германские деньги создали платную Красную гвардию с костяком из интернациональных частей, и повели успешную оккупацию России ‒ "триумфальное шествие советской власти", вскоре своими репрессиями вызвавшее повсеместное сопротивление, т.н. гражданскую войну.
В своих книгах я уже описал причины поражения русского белого сопротивления красным: главной из внутренних причин были обманные большевицкие обещания "Заводы ¬ рабочим, земля ‒ крестьянам!" и жесточайший террор против нелояльного населения (Красная армия пополнялась ее создателем Троцким насильственными мерами и взятием в заложники семей мобилизованных офицеров); главной внешней причиной успеха красных была поддержка власти большевиков западными демократиями в надежде на экономический контроль над разрушенной Россией (документальную книгу американского проф. Саттона об этом "Уолл-стрит и большевицкая революция" я перевел и издал по-русски со своим обширным послесловием). На Дону наиболее консервативной русской силой было казачество (в частности, весь 1917 год Макеевку контролировали казаки есаула В.И. Чернецова). Поэтому декретом от 24.01.1919 за подписью Свердлова (председателя ВЦИК ‒ высшего законодательного органа большевиков) казачество подверглось "расказачиванию", то есть геноциду мужского населения, а казачьи территории постепенно были поделены между соседними неказачьими административными новообразованиями.
В феврале 1919 года Макеевский район был включен в состав Донецкой губернии (с центром в г. Луганск). Районным центром стал г. Дмитриевск. В декабре 1919 года большевики передали Донбасс в состав Украинской ССР. 15 марта 1920 г. вышло Постановление Совета украинской трудовой армии № 15 за подписью Сталина: «Образовать Донецкую губернию из частей Харьковской, Екатеринославской губ. и Области Войска Донского». В течение всех 1920-х годов в новообразованной УССР проводилась насильственная украинизация, причина которой была в большевицком подавлении русского народа как "угнетателя" всех других, поэтому было приказано считать отдельными от русских население Украины (Малороссийской окраины) и Белоруссии (Белой Руси), придав их географическим названиям статус национальных ‒ вопреки воле народа. Поэтому даже за все время советской власти украинизация так и не смогла утвердиться особенно в юго-восточных областях республики, упорно говоривших на родном русском языке. (Это дало о себе знать и в восстании Донбасса в 2014 году против запрета даже местного официального использования русского языка киевской властью сразу после укроамериканского государственного переворота.)
В 1931 году, в связи с тем, что на Украине было несколько одноимённых населённых пунктов, г. Дмитриевск был переименован в город Макеевка, объединив несколько близлежащих поселений. К этому году население города достигло 165 тыс. человек, но административное значение его снизилось в пользу соседней Юзовки.
Расположенная рядом с Макеевкой Юзовка также была основана металлургами, англичанином Джоном Юзом в 1869 году, и она тоже развилась в крупный промышленный центр, получивший в мае 1917 года статус города. В 1924 году Юзовку переименовали в "Сталин", согласно официальному объяснению ‒ "в связи со смертью Ленина", мол, Сталин теперь главный как советизатор Донбасса. Вот как это мотивировалось: «Переименование города Юзовки в Сталин вполне приемлемо, т.к. его [Ленина] стальным последователем является тов. Сталин. Это имя дала ему партия, т.к. он был тверд и непоколебим, как сталь. Мы же должны быть так же тверды и непоколебимы, как сталь. Сталин будет нашим символом, и всякая попытка ненавистников стальных идей тов. Ленина разобьется о стальную стену» (Донецкий областной архив, фонд 279, опись 1, дело 1, с. 27-30).
В 1929 году, г. Сталин был переименован из мужского рода в средний ‒ "Сталино", которое стало административным центром Сталинского округа Донецкой губернии, а в 1932 году город стал центром Донецкой области, которая в 1938 году была разделена на две: Сталинскую и Ворошиловградскую.
Так Макеевку ко времени моего рождения угораздило попасть в Сталинскую область, название которой навсегда украсило мою двуязычную метрику (в которой первенствующим языком был украинский и графа фамилии обозначалась словом "прiзвище").

Таким образом я родился в казачьей области имени великого палача русского народа, чье имя таким образом должно было бы сопровождать меня всю жизнь несмотря на то, что в 1961 году Хрущев заменил название Сталино на Донецк (в Википедии в статье обо мне так и настаивают, что я родился в г. Макеевка Сталинской области, а не Донецкой, и по сути это так и есть). В документах современной РФ милостиво согласились родить меня в Донецкой области, но в водительском удостоверении, несмотря на мои протесты, настояли на том, что это было не в России, а в УССР.
Мои родители, молодые инженеры, были направлены в Макеевку в конце 1944 года по институтскому распределению: восстанавливать металлургический завод.

Мои родители: Виктор Афанасьевич Пахомов (ур. Виктор Викторович Назаров) и Вера Григорьевна Дмитренко. Макеевка, конец 1940-х годов.
Сначала в Макеевку сразу после получения диплома приехала мама с бабушкой в октябре 1944 года, уже беременной, и очень расстраивалась, что отец всё еще не защитил диплом и задерживается (он получил его 30 декабря и смог приехать лишь в следующем году), а живот растет и все это видят (будущего ребенка в письмах отцу она называла "тов. М", имея в виду меня, а родилась моя сестра Галочка). Я сейчас разбираю письма мамы, очень грустные и даже отчаянные.
Из Сталинска в Сталино она ехала с бабушкой поездом около месяца, выехала 25 сентября (на второй день поле свадьбы) и прибыла 16 октября. Поезд часто стоял на одном месте по нескольку дней, еду не везде удавалось находить, к тому же мама заболела гриппом, затем дизентерией и перенесла болезнь в поезде...
В Макеевке диавольские козни против моих родителей не прекратились: родившаяся в июне 1945 года моя сестра Галя умерла от дизентерии 16 ноября 1946 года в возрасте 1 год 5 месяцев 5 дней (так указано в свидетельстве о смерти на простом клочке бумаги). На ее смерти сказалось и то, что 1946‒1947 годы были голодными в "освобожденных областях" Украины, лекарств не хватало, и тогда там умерло от голода и болезней полтора миллиона человек. Врачи сказали отцу, что больной девочке "нужен лимон", но отец не смог его найти во всем городе и вернулся со слезами (впрочем, этот лимон, как потом оказалось, не был нужен).
А я был рожден 18 сентября 1948 года бездыханным. После родов мамой занимались акушерки, но она забезпокоилась, почему не слышит моего крика, и настояла, чтобы меня подали ей. Я не дышал и никакие шлепки не помогали. Тогда присутствовавший старый врач взял меня за ноги и потряс вниз головой – из моего рта выпал комок слизи и лишь тогда раздался мой первый крик...
Родился я в больнице, расположенной на другой стороне Ставка, в его северной части. Или в этой больнице я позже умирал. А может быть там объединилось и то, и другое. В возрасте полутора лет я тяжело болел целым букетом разных болезней, главной из которых тоже была дизентерия. Врачи сказали маме, что я не жилец. К этому времени, мне кажется, относятся и мои первые воспоминания в жизни: движущиеся белые халаты в темном полумраке ‒ всё в черно-белом свете....
Лишь когда мне было уже около сорока лет, мама рассказала мне (в письме из Ставрополя в Германию) о том, что меня спасло во время этой болезни. Вот этот рассказ.
«Когда тебе было 1 год и 5 месяцев, ты заболел дезинтерией. В то время ее очень боялись, и дети от нее часто умирали. Меня с тобой положили в больницу. В палате нас было 2 больных детей с матерями. Лечили тогда дизентерию сульфамидинами, препаратами-порошками. И когда стали давать тебе порошки. у тебя началась рвота. Тогда стали тебе колоть пенициллин. Его тогда считали панацеей от всех болезней. (Это потом через 30 лет доказали, что пенициллин при дезинтерии не помогает.)
Но от него тебе стало еще хуже. Ты ничего не мог есть, если что и съешь ‒ тут же вырвешь, даже воду не мог пить. И все время была температура 39º. Сидеть уже не мог. только лежал и очень боялся уколов, которые тебе делали через каждые 4 часа. При виде медсестры та плакал. Лежал такой худой с печальными глазенками и плачущим видом.
И вот вызывает меня к себе в кабинет гл. врач и говорит, что ты больше трех дней не проживешь. (Каково мне было это слушать, ведь и первая Галя умерла по их вине ‒ я потом только это поняла, а сначала я верила медикам, как богам.)
Я весь день проплакала у твоей кровати, а ночью под утро кто-то мне мужским голосом говорит: «Читай "Отче наш"». Я отвечаю: я не знаю. А этот голос властно твердо приказно сказал: "Так выучи!"
Утром, когда пришла уборщица (пожилая женщина), я ее спросила: ¬ Вы знаете "Отче наш"? Она ответила, что знает. Я попросила мне прочитать, записала и целый день читала над тобой, плача, стоя на коленях у твоей кровати. В этот день ты особенно был тяжелым (видимо, был твой последний день) ‒ ты целый день проплакал: А-а-а... А-а-а. не пил, не ел. К 5 часам вечера выбился из сил и уснул. В 6 часов пришла сестра делать укол, и тут как будто кто-то мне подсказал ‒ не буди. не давай. И я осмелилась сказать ¬ не трогайте, не будите, он весь день проплакал, от только что уснул. Она ушла. Потом приходит в 10 ч. вечера (через 4 часа). Я опять сказала ‒ не дам его будить, он спит. В 2 часа ночи ‒ то же самое. В 6 часов утра пришла сестра опять. Я сказала ‒ замерю температуру, если будет, тогда будете колоть.
В 7 часов меряю температуру ‒ нормальная! И после этого я не разрешиа никаких лекарств, ты начал поправляться, и нас через 3 дня выписали домой. Но в первый день выздоровления я кормила тебя (как птенца) тем, что сама пережую и со своей слюной пищу давала (курятину, кашку и др.). Эта болезнь задержала твой рост ‒ ты долго не вставал и не ходил, был рахитичным.
А я на всю жизнь запомнила "Отче наш" и часто молюсь за тебя, чтобы у тебя всё было хорошо, и за то, чтобы мы увиделись и чтобы ты вернулся» (Из письма от 3/ХII-1987)
Видимо, после выздоровления меня и крестили. А может быть и раньше, потому Господь и счел меня достойным жизни?
Так Господь защитил меня от смерти, определив жить дальше – и когда мама мне это рассказала уже в пожилом возрасте, это стало и для нее толчком в обращении к Церкви, и для меня поводом задуматься: для чего-то я понадобился Господу Богу, и я Его должник...
Разумеется, и мои полтавские бабушки, особенно очень благочестивая Тетя Устя (так ее звала мама, поэтому так ее всю жизнь называл и я), внесли свой вклад в мое спасение ‒ думаю, именно она устроила крещение, что официально уже не запрещалось, но и не поощрялось. Помню, как она водила меня в церковь во время Великого поста прикладываться к ранам Христовым. Было страшно перед Ним, Распятым... Церковь находилась с другой стороны завода, надо было перейти через эстакаду над железнодорожными путями и затем проехать несколько остановок на трамвае. (Возможно, это церковь, о которой я нашел в интернете такое воспоминание И.А. Паршиковой: «В 1914 году был построен Свято-Троицкий храм, в 1928 году закрыт, а в 1939 году разрушен... [Во время войны] на территории оккупированной Макеевки открывается Свято-Троицкая церковь в здании теперешнего Укрсоцбанка... А после освобождения Макеевки под церковь выделяют помещение, где сейчас находится фабрика спецодежды, наискосок от стоматологии» (адрес этой фабрики сегодня примерно в том районе: ул. 118 Павших революционеров, 31). В 1958 г. и эта церковь была закрыта.
Большевики планировали «уничтожить имя Бога» на всей территории СССР к концу 1930-х годов. Церкви повсеместно уничтожались. Именно под немецкой оккупацией в Макеевке было открыто несколько храмов (из городского краеведческого музея мне написали, что целых шесть). А поскольку в годы войны в СССР Церковь была с 1943 года тактически использована в целях исторического патриотизма, то и после войны некоторые из открытых немцами храмов избежали немедленного разгрома (усиление антирелигиозной пропаганды, аресты духовенства, закрытие церквей начались с 1947 года).
Должен также отметить, что Тетя Устя своей терпеливостью, незлобивостью и праведной жизнью повлияла на меня уже после своей смерти (она не имела мужа и детей, муж ее из-за этого бросил, оставив ей лишь фамилию Буцкая, которую она произносила по-украински: "Буцька", но, выдавая ей паспорт, туповатые чиновники истолковали это по-русски как "Буцько", а она смиренно не стала добиваться исправления.) Тетя Устя не имела даже пенсии, так как ее документы пропали во время войны...
О жизни до революции мои бабушки рассказывали с ностальгией, например, как отец давал им гривенник на ярмарку, и его хватало там на увеселения и сладости. Дальнейшая жизнь у них была тяжелой: революционная смута, потеря мужей, большевицкий террор, голодомор как принудительная мера для "добровольного" вступления в колхозы: сопротивлявшиеся села окружали, отбирали все съестные припасы и вымаривали голодом ‒ так было и на Северном Кавказе, и в южных областях Сибири, во всех земледельческих районах СССР. Мама рассказывала, что во время голода в их селе Решетиловка родители не пускали детей на улицу ‒ боялись, что их утащат и съедят. Рассказывала, как вдоль их забора шла старушка, едва передвигая ноги, упала и умерла, и из ее разжатого кулака струйкой просыпалось на землю зерно ‒ видимо, несла домой... Тетю Устю, уже опухшую от голода, вывезла из голодающей местности на санках ее сестра Ефросинья, к сожалению, не помню подробностей. Все они смогли уехать в Сибирь, в Сталинск ко второму мужу ‒ Кобищану.
Тетя Устя, как я уже написал, вернулась в Решетиловку накануне войны. Я спрашивал ее про жизнь под немецкой оккупацией, но, к моему удивлению, она никаких зверств не видела, разве что зимой немцы заставляли сельчан расчищать дороги от снега. Впрочем, в их местности не было и партизан, именно в борьбе с которыми применялись немцами карательные меры. А многие жители больше опасались возвращения советской власти и уходили с немцами. И некоторым было чего опасаться: Прасковья (1919 г.р.), племянница моих бабушек, дочь их брата Иллариона Бережецкого, работала при немцах в аптеке и получила за это десять лет воркутинских лагерей, откуда вернулась с туберкулезом. Мы с моей кузиной Женей как-то летом, примерно в 1960 году, гостили у деда Иллариона в Тараще под Белой Церковью, и я помню характерную жесткую зэковскую печать горечи на лице тети Паши, примерно, как зэков гримируют в художественных фильмах)...
Следует также уточнить, что мои родители после войны восстанавливали макеевский завод, который был разрушен не немцами, а еще в начале войны отступавшими советскими частями, вернее, этим везде занимались специальные отряды НКВД ‒ чтобы не оставлять немцам ничего ценного. Взрывали предприятия, мосты, электростанции, водопроводы, склады, административные здания (разумеется, потом во всем этом советские пропагандисты винили немцев), так что жизнь населения в освобожденных от оккупации городах начиналась в условиях полной разрухи.
Эти лишения и страдания, возможно, приучили моих бабушек к терпеливости, но и выработали экономный, нерасточительный, как еще говорят "кулацкий", то есть прижимистый образ жизни. В частности сберегались все испортившиеся вещи, которые еще могли для чего-то пригодиться (так оно порою и бывало), разумеется, недопустимо было выбрасывать еду, приходилось доедать через силу. Однажды, я в каком-то порыве все свои игрушки, сделанные для меня сибирской бабушкой, подарил жившим во дворе бедным цыганским детям, ‒ но украинские бабушки велели всё вернуть обратно. И были правы: это было мое неуважительное отношение к труду бабушки Веры (жаль, что не сохранились эти игрушки как память о ней ‒ только на фотографиях).

Прабабушка Наталья Николаевна (ур. Колокольцóва) и бабушка Вера в г. Кузнецк (с 1932 г. Сталинск , с 1961 г. Новокузнецк) мастерят игрушки как подарок правнуку-внуку в Макеевку. Примерно 1952 г.

С сибирской бабушкой с отцовской стороны Рузиной Верой Павловной. Макеевка, примерно 1953 г.
Как я уже сказал, наш дом близ завода я нашел в интернете (спутниковая карта Гугля) по детским воспоминаниям: завод, трамвайная линия на нашей улице, за ней парк и Ставок. Неподалеку, на противоположной стороне улицы рядом с парком, был мой детский сад. Эта улица на картах носит имя Кирова, хотя в письмах родителей они, по крайней мере, в 1951 году, указывали адрес: Старая колония, ул. Ленина 27/1 кв. 10. Видимо, они позже с Ленина перебрались на Кирова? Или улицу переименовали, присвоив имя Ленина более солидной улице в центре города? Ведь улица Ленина находится не в Старой колонии, а по другую сторону завода в центральной части города, которую я совершенно не знал... В краеведческом музее Макеевки (в переписке) мне этого не смогли объяснить, хотя помогли уточнить расположение детсада у парка, значит и место дома на этой улице я запомнил правильно.
Я помню прогулки с родителями в парке у ставка, есть много фотографий у скульптур: с медведем, со спортсменкой, у фонтана. Помню, как нашел в парке грибок (шампиньон), бабушки его сварили в супе и я съел его ‒ очень вкусная первая в жизни "добыча".
Основное время я проводил во дворе, в центре которого была куча песка, но без ограждений она постепенно расползалась и смешивалась с землей и пылью. Однажды самосвал привез кучу свежего песка ‒ вот была радость! Мы в нем "купались" и эту кучу тоже быстро растерзали.
Еще нам нравилось класть на трамвайные рельсы металлические предметы и удивляться потом, как их расплющивало: гвоздь превращался в плоский меч, запечатлевая в себе эту силу, превосходящую прочность железа, а монетка превращалась в тонкий безсмысленный кружок, лишенный прежнего имени, достоинства и ценности, прежде обозначавшейся цифрой.
Жизнь в грешном мiре уже в детстве дает о себе знать ‒ как это потом анализируешь в зрелом возрасте. Это прежде всего детский эгоизм, когда ребенок утверждает свое "право собственности" и жадничает ‒ несомненно, такое было и у меня. Или бывают дети жестокими.
Где-то в три-четыре года во мне проявилось то, что Церковь называет первородной греховностью человеческой натуры ‒ безпричинное зло, особенно непонятное именно в несознательном ребенке: однажды я, чтобы сделать что-то приятное котенку, несколько раз намеренно бросил его о настенный ковер над кроватью, чтобы тут же пожалеть его, таким странным способом проявляя к нему свою любовь. Это было лишь один раз, спонтанно, но осталось запомнившимся пятном, подтверждавшим древнюю богословскую антропологию...
Еще один пример: в пятилетнем возрасте я влюбился в Люду в нашем дворе, она была чуть постарше, но отвечала взаимностью, мы часто играли вместе и однажды, забравшись под кровать в ее доме (наши бабушки разговаривали рядом за столом) по-детски наивно и целомудренно, из любопытства и еще без стыда, просвещали друг друга о том, чем мальчики отличаются от девочек, сами ничего в этом не понимая. Уже дети чувствуют в этом какую-то тайну, которая в своей онтологической глубине полностью не раскрывается даже в зрелом возрасте (просто взрослые люди к этому привыкают как к данности): почему человек создан именно таким, двуполым? Но думаю, что если бы нам, теоретически, пришлось бы взрослеть в отсутствие чьих-либо объяснений о супружеской жизни, то человеческая природа сама сделала бы это, как, вероятно, было у изгнанных из рая еще совсем одиноких Адама и Евы. С тех пор это чувство пола инстинктивно живет в человеке, и Церковь, не считая его праведностью, как близкое к животному, а ставя гораздо выше девственность и монашеское безбрачие, аскетическое воздержание и посты, помогающие получить Божию помощь в трудные времена ‒ всё же не запретила его (примечательны апостольские поучения в этом отношении), а лишь ограничила облагораживающими условиями священного супружества, как огонь ограждают стенками печи.

В середине ‒ Люда, справа один из мальчиков нашего двора
Уже в то время я обрел и свой первый "политический" опыт (также, конечно, осознанный лишь позже). Мой детский сад располагался неподалеку от нашего дома на противоположной стороне той же улицы, метрах в трехстах севернее. Во входном вестибюле доминировала огромная картина Сталина во всю стену, кажется окруженного радостными детьми, но я запомнил в ней именно "божественного" Сталина.

Утренник в детском саду. Я крайний справа.
Хорошо помню день его смерти: как толпа народа с красными знаменами и черными траурными лентами хаотически металась по нашей улице, преграждая путь трамваям, откуда-то, будто из-под земли, звучала траурная музыка, проникавшая повсюду, и казалось, весь мiр переродился и взрослые люди, не зная, как жить дальше, от этого растерялись. Но не дети. Мальчишки нашли на тротуаре вафельную корочку от мороженого и поссорились из-за нее, на что им старшеклассник с траурной повязкой на рукаве сурово сказал: "Вот вы тут деретесь, а в Москве все люди плачут"...
Мать мне позже рассказала, что плакал и мой отец, даже будучи "дважды сыном врага народа" ‒ из-за чего ему было отказано в принятии в летное училище. На наглядном примере своей семьи я потом осознал, насколько сатанинская тоталитарная система корежит душу человека, принуждая ее любить зло и добросовестно служить ему, при этом человек полагает, что служит добру и Отечеству. Отец служил инженером, служил честно и самоотверженно, все свои лучшие человеческие качества и силы тратя на восстановление завода и гордясь этим. Его тогда, в 1952 году, приняли в партию, продемонстрировав доверие несмотря на его плохую биографию, ‒ он в то время был, пожалуй, образцовым продуктом новосозданного советского поколения, готового на подвиги по зову партии и не помнящего родства. Он был честным человеком, очень наивным, не способным на обман, но в то же время и показательной жертвой обманной системы. (Позже, когда я в эмиграции прочел "1984" Орвелла, я подумал об отце как такой же жертве, и защемило в груди ‒ сколько им было потеряно в дарованной ему жизни...)
Несколько лет спустя, видимо осенью 1957 года, к нам уже в село Бешпагир вновь приехала сибирская бабушка с инвалидом дядей Юрой, мы их встретили на вокзале в Ставрополе, на служебном автомобиле (от МТС или колхоза). Сев в него, она сразу же радостно сказала отцу о реабилитации его отчима Пахомова, чтобы и его обрадовать, и меня поразила реакция отца, продиктованная страхом и опять-таки наивная: он моментально закрыл ей рот рукой, чтобы она не говорила этого при колхозном шофере, подрывая отцовский авторитет, хотя шофер, разумеется, всё понял...
(Когда я уже учился в Москве и приезжал в родительский дом в Ставрополь, мы с отцом откровенно беседовали на политические темы, и он не одобрял моего созревавшего бунтарства против системы: «погоди, вот схватит тебя жизнь ‒ тогда поймешь, что это такое». То есть в основе его лояльности лежал страх, а не добровольный выбор. И когда этот страх стал исчезать в годы "перестройки", он стал, к счастью, освобождаться от советского морока, также и мама, раньше него и серьезнее... Новым препятствием на этом пути освобождения у отца стало то, что свергнувшие коммунизм перекрасившиеся в "демократов" партийные функционеры не могли быть привлекательной альтернативой: в сравнении с прежними служилыми коммунистами они проявили себя как откровенные эгоисты-разрушители, цинично отвергнувшие и былой "нравственный кодекс строителя коммунизма", который паразитировал на лучших человеческих качествах для целей античеловечной системы.)
В детском саду мне всё более-менее нравилось, кроме яичницы-глазуньи, жареного лука и молочных пенок, а также мне не удавалось засыпать в "мертвый час" после обеда: я разглядывал шероховатости крашеной штукатурки на стенке над кроватью и мысленно находил в ней различные изображения наподобие заданий на внимательность: "найди охотника в кустах".
На днях (ноябрь 2020 г.), разбирая мамины письма, я нашел конверт с письмом моей детсадовской воспитательницы Александры Савельевны Волковицкой (детсад № 1 з-да им. Кирова, Совколония, Деловой переулок), которая, в связи с нашим отъездом из Макеевки, в мае 1954 г. написала письмо "Воспитательнице детского сада, где будет находиться Миша Пахомов". Это первая в моей жизни официальная характеристика, в возрасте 5 с половиной лет.
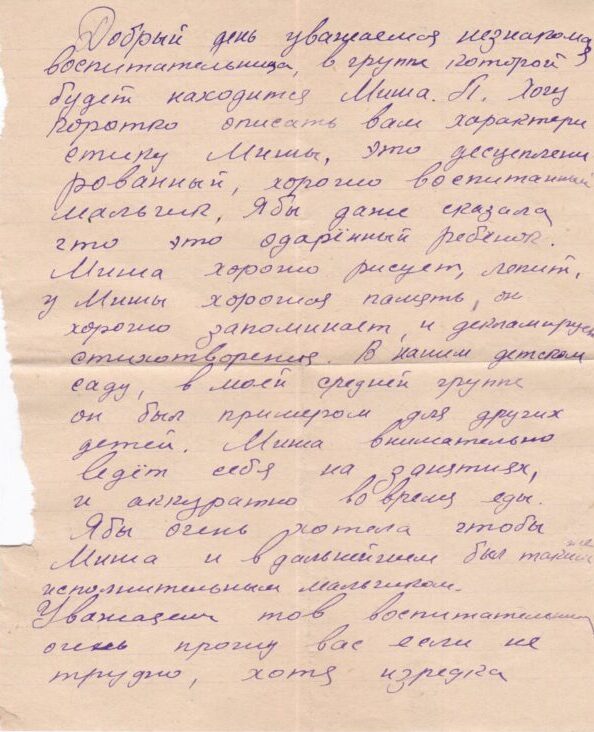

В прилагаемой "Выписке из истории развития ребенка" перечислены перенесенные мною тогда болезни (скарлатина, дизентерия, корь) и "антропометрические измерения на 3 апреля 1954 г.: вес 15,600, рост 103 см".
Но это письмо так и осталось безадресным, ибо следующего детсада у меня уже не было.
С тех пор мне не довелось побывать в Макеевке, хотя хотелось и планировал в последние годы, но помешала война в Донбассе, когда Макеевка попала в постоянную зону обстрела и границу с РФ для "туристов" закрыли. Место появления человека в мiр и первых лет его познания откладывается в онтологической памяти как ее начало, без которого всё дальнейшее не существовало бы. Вот почему у многих людей есть чувство родины, которое, бывает, просыпается даже в преклонном возрасте и заставляет собирать сведения о предках и даже посещать первые места своей жизни...
Так я и воспринимаю сейчас Макеевку как начало моего познания мiра, не "райского на земле", как хотелось бы, а далеко не во всем благоприятного, даже немного сурового, что приходится учитывать в своем стремлении к его познанию и своих возможностей и задач в этом мiре.
(Вторая половина этой главы тут не помещается, размещена далее: Бешпагир)
Опыт моего детства
Кто-то скажет: какой еще опыт может дать раннее детство, самая неразумная пора жизни?
Но оно очень необычно и неповторимо тем, что таинственно возникшее в мiре из ничего самосознание человека, еще не зная толком, что оно из себя представляет, и, исходя из своего инстинктивного разума, начинает познавать чудо окружающего мiра и себя в этом мiре. Ребенок видит мiр глазами первооткрывателя, не так, как привыкший к нему взрослый, поэтому дети часто задают необычные и смешные вопроса. Еще не возникает главного вопроса: для чего я в этом мiре? ‒ но выполняется какая-то предварительная программа, исконно заложенная в родившемся маленьком разумном существе, в его теле и в чувствах, которыми оно обладает.
Опыт бытия постепенно нарастает, как снежный шар, который время катит по пустырю, а в нем уже живут, зачем-то снуют туда-сюда большие люди, даже на железных машинах и трамваях, и этот детский шар вместе со снегом вбирает в себя также комочки земли, опавшие листья и отмершие стебли травы, искореженные железки, окурки и прочий мусор, от которого шар стараются очищать родители (в моем детстве ‒ полтавские бабушки-сестры Ефросиния и Устиния (урожденные Бережецкие из малороссийского казачества), так как родители основное время проводили на заводе; с родителями, во дворе, в детском саду я говорил по-русски, а с бабушками, как они: по-украински, но я не ощущал это языком, отдельным от русского, и он был не такой, какой слышу сейчас в украинской Раде).
А уже во взрослом возрасте мы осмысляем запечатленный памятью детский опыт, дающий много первичной познавательной информации о смысле жизни. Мне также интересно сейчас понять, как и в чем на мою биографию повлияло мое детство (куда я включаю Макеевку и Бешпагир). Мне также хотелось бы этим дать внукам и свидетельство о советской эпохе, которую власти РФ ныне пытаются приукрасить.
Макеевка Сталинской области
Макеевский металлургический завод им. Кирова (это был видный большевик, который не имел никакого отношения ни к Макеевке, ни к металлургии) располагался вплотную к нашим жилым домам (наша квартира была на втором этаже, не помню, был ли третий) на улице, которая сейчас называется тоже им. Кирова. Невольно вспоминаются начальные кадры советского "перестроечного" фильма "Маленькая Вера", когда ребенок качается на качелях и рядом с детской площадкой проезжают грузовые железнодорожные вагоны ‒ в фильме, это, если не ошибаюсь, было близ металлургического завода в Мариуполе, примерно то же было в моем детстве в Макеевке. За нашим домом начиналась эстакада, проходившая над заводскими железнодорожными путями, по которым порою проезжали такие вагоны, груженые раскаленным шлаком или коксом с кисловатым запахом.
Недавно я нашел наш дом на карте мiра на глобальной карте Гугля и поразился размерам завода сверху ‒ это был настоящий монстр длиной в несколько километров, во много раз превосходивший своими размерами расположенные рядом жилые кварталы.
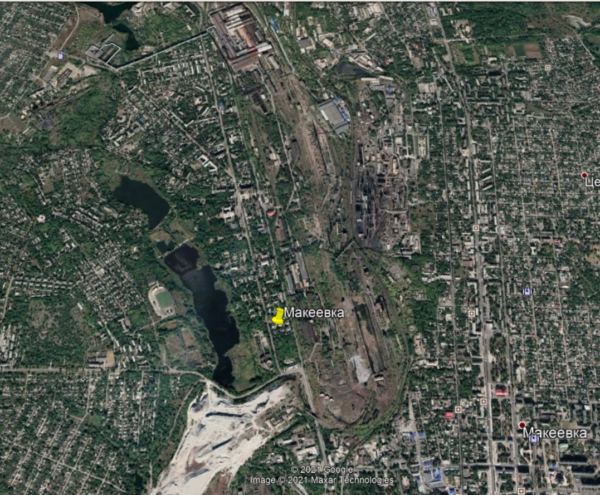
Желтым значком отмечен наш дом, справа от него серая территория завода, протянувшегося с юга на север, еще дальше направо ‒ центральная часть города.
Сейчас, в результате послесоветской Великой криминальной революции, этот монстр уже мертв: краеведы в интернете пишут, что гигантский комбинат порезали на металлолом, остались в основном руины с жалкими остатками промышленной жизни между ними: «К 2009 году с ликвидацией доменных и мартеновских печей комбинат превратился в Макеевский прокатный завод, а ещё через несколько лет, когда тут остались лишь вспомогательные цеха и коксохим ‒ в Макеевский филиал Енакиевского металлургического завода». (Много современных фотографий Старой колонии и ее руин можно посмотреть в интернете: это места моего макеевского детства.)
Сохранились еще шлаковые отвалы ‒ искусственная гора из "объедков", оставшихся от выедания богатых недр, которыми наделена эта земля и которые привлекли сюда людей для использования их в своей цивилизации.
Справка из Википедии и др. источников.
Официальной датой основания города Макеевки считается дата первого упоминания в 1690 году поселения запорожских казаков Ясиновка (сейчас поселок городского типа, подчинённый Макеевскому горсовету). В 1787 году возникла слобода Макеевская (позже посёлок Макеевка, с 1965 года включён в территорию Горняцкого района города). Название производят от имени казака Макея.
В 1815 году Макеевская слобода стала центром вновь созданной Макеевской области. До середины XVIII территория южнее Бахмута находилась под контролем Крымского ханства и оседлое население здесь практически отсутствовало. Заселение этих территорий началось лишь после окончания русско-турецкой войны 1735‒1739 гг., результаты которой были окончательно закреплены после войны 1768-1774 гг. по мирному договору 1774 года, когда Крымское ханство (осколок татарской Орды, завоевавшей Русь в XVIII веке) было подчинено России и Приазовье вошло в состав Российской Империи. В конце XVIII века эти, в основном пустовавшие ранее, земли были заселены казачьими станицами и поделены на губернии, при этом территория нынешней Макеевки была отнесена к области казачьего Войска Донского.
Донбасс был поделен между Екатеринославской губернией и Областью Войска Донского так, что угольные пласты тянулись и соответственно промышленность росла как раз по их границе. Здесь она проходила по реке Кальмиус, от истоков его поворачивала на восток, поэтому Юзовка (и 3/4 нынешнего Донецка) относились к Екатринославщине, а 4/5 нынешней Макеевки ‒ к области Войска Донского. В те времена большей частью "донской" половины будущего Донбасса владел род Иловайских, дворян из казачьей старшины, возводившей свою родословную к основателю Макеевской слободы ‒ казаку Макею.
В середине XIX века в районе нынешней Макеевки началась добыча каменного угля. Началось строительство шахт, которые в 1859 году были объединены в Макеевский каменноугольный район. В 1885 году предпринимателем И.Г. Иловайским было начато сооружение труболитейного завода. Сначала уголь вывозили подводами на гужевом транспорте (на волах и лошадях). Первые железные дороги на территории района были проложены между Иловайском и Ханженково (1869 год), Ясиноватой и Криничной.
В 1897-1898 годах французское "Генеральное общество чугуноплавильных, железоделательных и сталелитейных заводов России" начало грандиозного металлургического завода "Унион" строительство близ Макеевой слободы. Старая колония, давшее началу современному городу, была построена на рубеже XIX¬‒XX веков вместе с заводом.
К 1911‒1913 годам макеевским заводом "Унион" производилось 235,8 тыс. тонн чугуна, 169,9 тыс. тонн стали, 128,7 тыс. тонн проката, кроме того, завод приобрёл угольные шахты. Так казачье поселение превратилось в крупный промышленный центр России привлекавший заработками, несмотря на трудные условия шахтерской работы, стекавшихся туда рабочих, на которых делали ставку революционеры в своей пропаганде.
Во время Февральской революции, как и везде, поначалу верховодили меньшевики и эсеры, большевики были непопулярны своей военно-пораженческой агитацией, но благодаря щедрому германскому финансированию к концу 1917 года они всё больше доминировали в Советах по всей стране. Захватив власть в столице, большевики на германские деньги создали платную Красную гвардию с костяком из интернациональных частей, и повели успешную оккупацию России ‒ "триумфальное шествие советской власти", вскоре своими репрессиями вызвавшее повсеместное сопротивление, т.н. гражданскую войну.
В своих книгах я уже описал причины поражения русского белого сопротивления красным: главной из внутренних причин были обманные большевицкие обещания "Заводы ¬ рабочим, земля ‒ крестьянам!" и жесточайший террор против нелояльного населения (Красная армия пополнялась ее создателем Троцким насильственными мерами и взятием в заложники семей мобилизованных офицеров); главной внешней причиной успеха красных была поддержка власти большевиков западными демократиями в надежде на экономический контроль над разрушенной Россией (документальную книгу американского проф. Саттона об этом "Уолл-стрит и большевицкая революция" я перевел и издал по-русски со своим обширным послесловием). На Дону наиболее консервативной русской силой было казачество (в частности, весь 1917 год Макеевку контролировали казаки есаула В.И. Чернецова). Поэтому декретом от 24.01.1919 за подписью Свердлова (председателя ВЦИК ‒ высшего законодательного органа большевиков) казачество подверглось "расказачиванию", то есть геноциду мужского населения, а казачьи территории постепенно были поделены между соседними неказачьими административными новообразованиями.
В феврале 1919 года Макеевский район был включен в состав Донецкой губернии (с центром в г. Луганск). Районным центром стал г. Дмитриевск. В декабре 1919 года большевики передали Донбасс в состав Украинской ССР. 15 марта 1920 г. вышло Постановление Совета украинской трудовой армии № 15 за подписью Сталина: «Образовать Донецкую губернию из частей Харьковской, Екатеринославской губ. и Области Войска Донского». В течение всех 1920-х годов в новообразованной УССР проводилась насильственная украинизация, причина которой была в большевицком подавлении русского народа как "угнетателя" всех других, поэтому было приказано считать отдельными от русских население Украины (Малороссийской окраины) и Белоруссии (Белой Руси), придав их географическим названиям статус национальных ‒ вопреки воле народа. Поэтому даже за все время советской власти украинизация так и не смогла утвердиться особенно в юго-восточных областях республики, упорно говоривших на родном русском языке. (Это дало о себе знать и в восстании Донбасса в 2014 году против запрета даже местного официального использования русского языка киевской властью сразу после укроамериканского государственного переворота.)
В 1931 году, в связи с тем, что на Украине было несколько одноимённых населённых пунктов, г. Дмитриевск был переименован в город Макеевка, объединив несколько близлежащих поселений. К этому году население города достигло 165 тыс. человек, но административное значение его снизилось в пользу соседней Юзовки.
Расположенная рядом с Макеевкой Юзовка также была основана металлургами, англичанином Джоном Юзом в 1869 году, и она тоже развилась в крупный промышленный центр, получивший в мае 1917 года статус города. В 1924 году Юзовку переименовали в "Сталин", согласно официальному объяснению ‒ "в связи со смертью Ленина", мол, Сталин теперь главный как советизатор Донбасса. Вот как это мотивировалось: «Переименование города Юзовки в Сталин вполне приемлемо, т.к. его [Ленина] стальным последователем является тов. Сталин. Это имя дала ему партия, т.к. он был тверд и непоколебим, как сталь. Мы же должны быть так же тверды и непоколебимы, как сталь. Сталин будет нашим символом, и всякая попытка ненавистников стальных идей тов. Ленина разобьется о стальную стену» (Донецкий областной архив, фонд 279, опись 1, дело 1, с. 27-30).
В 1929 году, г. Сталин был переименован из мужского рода в средний ‒ "Сталино", которое стало административным центром Сталинского округа Донецкой губернии, а в 1932 году город стал центром Донецкой области, которая в 1938 году была разделена на две: Сталинскую и Ворошиловградскую.
Так Макеевку ко времени моего рождения угораздило попасть в Сталинскую область, название которой навсегда украсило мою двуязычную метрику (в которой первенствующим языком был украинский и графа фамилии обозначалась словом "прiзвище").

Таким образом я родился в казачьей области имени великого палача русского народа, чье имя таким образом должно было бы сопровождать меня всю жизнь несмотря на то, что в 1961 году Хрущев заменил название Сталино на Донецк (в Википедии в статье обо мне так и настаивают, что я родился в г. Макеевка Сталинской области, а не Донецкой, и по сути это так и есть). В документах современной РФ милостиво согласились родить меня в Донецкой области, но в водительском удостоверении, несмотря на мои протесты, настояли на том, что это было не в России, а в УССР.
Мои родители, молодые инженеры, были направлены в Макеевку в конце 1944 года по институтскому распределению: восстанавливать металлургический завод.

Мои родители: Виктор Афанасьевич Пахомов (ур. Виктор Викторович Назаров) и Вера Григорьевна Дмитренко. Макеевка, конец 1940-х годов.
Сначала в Макеевку сразу после получения диплома приехала мама с бабушкой в октябре 1944 года, уже беременной, и очень расстраивалась, что отец всё еще не защитил диплом и задерживается (он получил его 30 декабря и смог приехать лишь в следующем году), а живот растет и все это видят (будущего ребенка в письмах отцу она называла "тов. М", имея в виду меня, а родилась моя сестра Галочка). Я сейчас разбираю письма мамы, очень грустные и даже отчаянные.
Из Сталинска в Сталино она ехала с бабушкой поездом около месяца, выехала 25 сентября (на второй день поле свадьбы) и прибыла 16 октября. Поезд часто стоял на одном месте по нескольку дней, еду не везде удавалось находить, к тому же мама заболела гриппом, затем дизентерией и перенесла болезнь в поезде...
В Макеевке диавольские козни против моих родителей не прекратились: родившаяся в июне 1945 года моя сестра Галя умерла от дизентерии 16 ноября 1946 года в возрасте 1 год 5 месяцев 5 дней (так указано в свидетельстве о смерти на простом клочке бумаги). На ее смерти сказалось и то, что 1946‒1947 годы были голодными в "освобожденных областях" Украины, лекарств не хватало, и тогда там умерло от голода и болезней полтора миллиона человек. Врачи сказали отцу, что больной девочке "нужен лимон", но отец не смог его найти во всем городе и вернулся со слезами (впрочем, этот лимон, как потом оказалось, не был нужен).
А я был рожден 18 сентября 1948 года бездыханным. После родов мамой занимались акушерки, но она забезпокоилась, почему не слышит моего крика, и настояла, чтобы меня подали ей. Я не дышал и никакие шлепки не помогали. Тогда присутствовавший старый врач взял меня за ноги и потряс вниз головой – из моего рта выпал комок слизи и лишь тогда раздался мой первый крик...
Родился я в больнице, расположенной на другой стороне Ставка, в его северной части. Или в этой больнице я позже умирал. А может быть там объединилось и то, и другое. В возрасте полутора лет я тяжело болел целым букетом разных болезней, главной из которых тоже была дизентерия. Врачи сказали маме, что я не жилец. К этому времени, мне кажется, относятся и мои первые воспоминания в жизни: движущиеся белые халаты в темном полумраке ‒ всё в черно-белом свете....
Лишь когда мне было уже около сорока лет, мама рассказала мне (в письме из Ставрополя в Германию) о том, что меня спасло во время этой болезни. Вот этот рассказ.
«Когда тебе было 1 год и 5 месяцев, ты заболел дезинтерией. В то время ее очень боялись, и дети от нее часто умирали. Меня с тобой положили в больницу. В палате нас было 2 больных детей с матерями. Лечили тогда дизентерию сульфамидинами, препаратами-порошками. И когда стали давать тебе порошки. у тебя началась рвота. Тогда стали тебе колоть пенициллин. Его тогда считали панацеей от всех болезней. (Это потом через 30 лет доказали, что пенициллин при дезинтерии не помогает.)
Но от него тебе стало еще хуже. Ты ничего не мог есть, если что и съешь ‒ тут же вырвешь, даже воду не мог пить. И все время была температура 39º. Сидеть уже не мог. только лежал и очень боялся уколов, которые тебе делали через каждые 4 часа. При виде медсестры та плакал. Лежал такой худой с печальными глазенками и плачущим видом.
И вот вызывает меня к себе в кабинет гл. врач и говорит, что ты больше трех дней не проживешь. (Каково мне было это слушать, ведь и первая Галя умерла по их вине ‒ я потом только это поняла, а сначала я верила медикам, как богам.)
Я весь день проплакала у твоей кровати, а ночью под утро кто-то мне мужским голосом говорит: «Читай "Отче наш"». Я отвечаю: я не знаю. А этот голос властно твердо приказно сказал: "Так выучи!"
Утром, когда пришла уборщица (пожилая женщина), я ее спросила: ¬ Вы знаете "Отче наш"? Она ответила, что знает. Я попросила мне прочитать, записала и целый день читала над тобой, плача, стоя на коленях у твоей кровати. В этот день ты особенно был тяжелым (видимо, был твой последний день) ‒ ты целый день проплакал: А-а-а... А-а-а. не пил, не ел. К 5 часам вечера выбился из сил и уснул. В 6 часов пришла сестра делать укол, и тут как будто кто-то мне подсказал ‒ не буди. не давай. И я осмелилась сказать ¬ не трогайте, не будите, он весь день проплакал, от только что уснул. Она ушла. Потом приходит в 10 ч. вечера (через 4 часа). Я опять сказала ‒ не дам его будить, он спит. В 2 часа ночи ‒ то же самое. В 6 часов утра пришла сестра опять. Я сказала ‒ замерю температуру, если будет, тогда будете колоть.
В 7 часов меряю температуру ‒ нормальная! И после этого я не разрешиа никаких лекарств, ты начал поправляться, и нас через 3 дня выписали домой. Но в первый день выздоровления я кормила тебя (как птенца) тем, что сама пережую и со своей слюной пищу давала (курятину, кашку и др.). Эта болезнь задержала твой рост ‒ ты долго не вставал и не ходил, был рахитичным.
А я на всю жизнь запомнила "Отче наш" и часто молюсь за тебя, чтобы у тебя всё было хорошо, и за то, чтобы мы увиделись и чтобы ты вернулся» (Из письма от 3/ХII-1987)
Видимо, после выздоровления меня и крестили. А может быть и раньше, потому Господь и счел меня достойным жизни?
Так Господь защитил меня от смерти, определив жить дальше – и когда мама мне это рассказала уже в пожилом возрасте, это стало и для нее толчком в обращении к Церкви, и для меня поводом задуматься: для чего-то я понадобился Господу Богу, и я Его должник...
Разумеется, и мои полтавские бабушки, особенно очень благочестивая Тетя Устя (так ее звала мама, поэтому так ее всю жизнь называл и я), внесли свой вклад в мое спасение ‒ думаю, именно она устроила крещение, что официально уже не запрещалось, но и не поощрялось. Помню, как она водила меня в церковь во время Великого поста прикладываться к ранам Христовым. Было страшно перед Ним, Распятым... Церковь находилась с другой стороны завода, надо было перейти через эстакаду над железнодорожными путями и затем проехать несколько остановок на трамвае. (Возможно, это церковь, о которой я нашел в интернете такое воспоминание И.А. Паршиковой: «В 1914 году был построен Свято-Троицкий храм, в 1928 году закрыт, а в 1939 году разрушен... [Во время войны] на территории оккупированной Макеевки открывается Свято-Троицкая церковь в здании теперешнего Укрсоцбанка... А после освобождения Макеевки под церковь выделяют помещение, где сейчас находится фабрика спецодежды, наискосок от стоматологии» (адрес этой фабрики сегодня примерно в том районе: ул. 118 Павших революционеров, 31). В 1958 г. и эта церковь была закрыта.
Большевики планировали «уничтожить имя Бога» на всей территории СССР к концу 1930-х годов. Церкви повсеместно уничтожались. Именно под немецкой оккупацией в Макеевке было открыто несколько храмов (из городского краеведческого музея мне написали, что целых шесть). А поскольку в годы войны в СССР Церковь была с 1943 года тактически использована в целях исторического патриотизма, то и после войны некоторые из открытых немцами храмов избежали немедленного разгрома (усиление антирелигиозной пропаганды, аресты духовенства, закрытие церквей начались с 1947 года).
Должен также отметить, что Тетя Устя своей терпеливостью, незлобивостью и праведной жизнью повлияла на меня уже после своей смерти (она не имела мужа и детей, муж ее из-за этого бросил, оставив ей лишь фамилию Буцкая, которую она произносила по-украински: "Буцька", но, выдавая ей паспорт, туповатые чиновники истолковали это по-русски как "Буцько", а она смиренно не стала добиваться исправления.) Тетя Устя не имела даже пенсии, так как ее документы пропали во время войны...
О жизни до революции мои бабушки рассказывали с ностальгией, например, как отец давал им гривенник на ярмарку, и его хватало там на увеселения и сладости. Дальнейшая жизнь у них была тяжелой: революционная смута, потеря мужей, большевицкий террор, голодомор как принудительная мера для "добровольного" вступления в колхозы: сопротивлявшиеся села окружали, отбирали все съестные припасы и вымаривали голодом ‒ так было и на Северном Кавказе, и в южных областях Сибири, во всех земледельческих районах СССР. Мама рассказывала, что во время голода в их селе Решетиловка родители не пускали детей на улицу ‒ боялись, что их утащат и съедят. Рассказывала, как вдоль их забора шла старушка, едва передвигая ноги, упала и умерла, и из ее разжатого кулака струйкой просыпалось на землю зерно ‒ видимо, несла домой... Тетю Устю, уже опухшую от голода, вывезла из голодающей местности на санках ее сестра Ефросинья, к сожалению, не помню подробностей. Все они смогли уехать в Сибирь, в Сталинск ко второму мужу ‒ Кобищану.
Тетя Устя, как я уже написал, вернулась в Решетиловку накануне войны. Я спрашивал ее про жизнь под немецкой оккупацией, но, к моему удивлению, она никаких зверств не видела, разве что зимой немцы заставляли сельчан расчищать дороги от снега. Впрочем, в их местности не было и партизан, именно в борьбе с которыми применялись немцами карательные меры. А многие жители больше опасались возвращения советской власти и уходили с немцами. И некоторым было чего опасаться: Прасковья (1919 г.р.), племянница моих бабушек, дочь их брата Иллариона Бережецкого, работала при немцах в аптеке и получила за это десять лет воркутинских лагерей, откуда вернулась с туберкулезом. Мы с моей кузиной Женей как-то летом, примерно в 1960 году, гостили у деда Иллариона в Тараще под Белой Церковью, и я помню характерную жесткую зэковскую печать горечи на лице тети Паши, примерно, как зэков гримируют в художественных фильмах)...
Следует также уточнить, что мои родители после войны восстанавливали макеевский завод, который был разрушен не немцами, а еще в начале войны отступавшими советскими частями, вернее, этим везде занимались специальные отряды НКВД ‒ чтобы не оставлять немцам ничего ценного. Взрывали предприятия, мосты, электростанции, водопроводы, склады, административные здания (разумеется, потом во всем этом советские пропагандисты винили немцев), так что жизнь населения в освобожденных от оккупации городах начиналась в условиях полной разрухи.
Эти лишения и страдания, возможно, приучили моих бабушек к терпеливости, но и выработали экономный, нерасточительный, как еще говорят "кулацкий", то есть прижимистый образ жизни. В частности сберегались все испортившиеся вещи, которые еще могли для чего-то пригодиться (так оно порою и бывало), разумеется, недопустимо было выбрасывать еду, приходилось доедать через силу. Однажды, я в каком-то порыве все свои игрушки, сделанные для меня сибирской бабушкой, подарил жившим во дворе бедным цыганским детям, ‒ но украинские бабушки велели всё вернуть обратно. И были правы: это было мое неуважительное отношение к труду бабушки Веры (жаль, что не сохранились эти игрушки как память о ней ‒ только на фотографиях).

Прабабушка Наталья Николаевна (ур. Колокольцóва) и бабушка Вера в г. Кузнецк (с 1932 г. Сталинск , с 1961 г. Новокузнецк) мастерят игрушки как подарок правнуку-внуку в Макеевку. Примерно 1952 г.

С сибирской бабушкой с отцовской стороны Рузиной Верой Павловной. Макеевка, примерно 1953 г.
Как я уже сказал, наш дом близ завода я нашел в интернете (спутниковая карта Гугля) по детским воспоминаниям: завод, трамвайная линия на нашей улице, за ней парк и Ставок. Неподалеку, на противоположной стороне улицы рядом с парком, был мой детский сад. Эта улица на картах носит имя Кирова, хотя в письмах родителей они, по крайней мере, в 1951 году, указывали адрес: Старая колония, ул. Ленина 27/1 кв. 10. Видимо, они позже с Ленина перебрались на Кирова? Или улицу переименовали, присвоив имя Ленина более солидной улице в центре города? Ведь улица Ленина находится не в Старой колонии, а по другую сторону завода в центральной части города, которую я совершенно не знал... В краеведческом музее Макеевки (в переписке) мне этого не смогли объяснить, хотя помогли уточнить расположение детсада у парка, значит и место дома на этой улице я запомнил правильно.
Я помню прогулки с родителями в парке у ставка, есть много фотографий у скульптур: с медведем, со спортсменкой, у фонтана. Помню, как нашел в парке грибок (шампиньон), бабушки его сварили в супе и я съел его ‒ очень вкусная первая в жизни "добыча".
Основное время я проводил во дворе, в центре которого была куча песка, но без ограждений она постепенно расползалась и смешивалась с землей и пылью. Однажды самосвал привез кучу свежего песка ‒ вот была радость! Мы в нем "купались" и эту кучу тоже быстро растерзали.
Еще нам нравилось класть на трамвайные рельсы металлические предметы и удивляться потом, как их расплющивало: гвоздь превращался в плоский меч, запечатлевая в себе эту силу, превосходящую прочность железа, а монетка превращалась в тонкий безсмысленный кружок, лишенный прежнего имени, достоинства и ценности, прежде обозначавшейся цифрой.
Жизнь в грешном мiре уже в детстве дает о себе знать ‒ как это потом анализируешь в зрелом возрасте. Это прежде всего детский эгоизм, когда ребенок утверждает свое "право собственности" и жадничает ‒ несомненно, такое было и у меня. Или бывают дети жестокими.
Где-то в три-четыре года во мне проявилось то, что Церковь называет первородной греховностью человеческой натуры ‒ безпричинное зло, особенно непонятное именно в несознательном ребенке: однажды я, чтобы сделать что-то приятное котенку, несколько раз намеренно бросил его о настенный ковер над кроватью, чтобы тут же пожалеть его, таким странным способом проявляя к нему свою любовь. Это было лишь один раз, спонтанно, но осталось запомнившимся пятном, подтверждавшим древнюю богословскую антропологию...
Еще один пример: в пятилетнем возрасте я влюбился в Люду в нашем дворе, она была чуть постарше, но отвечала взаимностью, мы часто играли вместе и однажды, забравшись под кровать в ее доме (наши бабушки разговаривали рядом за столом) по-детски наивно и целомудренно, из любопытства и еще без стыда, просвещали друг друга о том, чем мальчики отличаются от девочек, сами ничего в этом не понимая. Уже дети чувствуют в этом какую-то тайну, которая в своей онтологической глубине полностью не раскрывается даже в зрелом возрасте (просто взрослые люди к этому привыкают как к данности): почему человек создан именно таким, двуполым? Но думаю, что если бы нам, теоретически, пришлось бы взрослеть в отсутствие чьих-либо объяснений о супружеской жизни, то человеческая природа сама сделала бы это, как, вероятно, было у изгнанных из рая еще совсем одиноких Адама и Евы. С тех пор это чувство пола инстинктивно живет в человеке, и Церковь, не считая его праведностью, как близкое к животному, а ставя гораздо выше девственность и монашеское безбрачие, аскетическое воздержание и посты, помогающие получить Божию помощь в трудные времена ‒ всё же не запретила его (примечательны апостольские поучения в этом отношении), а лишь ограничила облагораживающими условиями священного супружества, как огонь ограждают стенками печи.

В середине ‒ Люда, справа один из мальчиков нашего двора
Уже в то время я обрел и свой первый "политический" опыт (также, конечно, осознанный лишь позже). Мой детский сад располагался неподалеку от нашего дома на противоположной стороне той же улицы, метрах в трехстах севернее. Во входном вестибюле доминировала огромная картина Сталина во всю стену, кажется окруженного радостными детьми, но я запомнил в ней именно "божественного" Сталина.

Утренник в детском саду. Я крайний справа.
Хорошо помню день его смерти: как толпа народа с красными знаменами и черными траурными лентами хаотически металась по нашей улице, преграждая путь трамваям, откуда-то, будто из-под земли, звучала траурная музыка, проникавшая повсюду, и казалось, весь мiр переродился и взрослые люди, не зная, как жить дальше, от этого растерялись. Но не дети. Мальчишки нашли на тротуаре вафельную корочку от мороженого и поссорились из-за нее, на что им старшеклассник с траурной повязкой на рукаве сурово сказал: "Вот вы тут деретесь, а в Москве все люди плачут"...
Мать мне позже рассказала, что плакал и мой отец, даже будучи "дважды сыном врага народа" ‒ из-за чего ему было отказано в принятии в летное училище. На наглядном примере своей семьи я потом осознал, насколько сатанинская тоталитарная система корежит душу человека, принуждая ее любить зло и добросовестно служить ему, при этом человек полагает, что служит добру и Отечеству. Отец служил инженером, служил честно и самоотверженно, все свои лучшие человеческие качества и силы тратя на восстановление завода и гордясь этим. Его тогда, в 1952 году, приняли в партию, продемонстрировав доверие несмотря на его плохую биографию, ‒ он в то время был, пожалуй, образцовым продуктом новосозданного советского поколения, готового на подвиги по зову партии и не помнящего родства. Он был честным человеком, очень наивным, не способным на обман, но в то же время и показательной жертвой обманной системы. (Позже, когда я в эмиграции прочел "1984" Орвелла, я подумал об отце как такой же жертве, и защемило в груди ‒ сколько им было потеряно в дарованной ему жизни...)
Несколько лет спустя, видимо осенью 1957 года, к нам уже в село Бешпагир вновь приехала сибирская бабушка с инвалидом дядей Юрой, мы их встретили на вокзале в Ставрополе, на служебном автомобиле (от МТС или колхоза). Сев в него, она сразу же радостно сказала отцу о реабилитации его отчима Пахомова, чтобы и его обрадовать, и меня поразила реакция отца, продиктованная страхом и опять-таки наивная: он моментально закрыл ей рот рукой, чтобы она не говорила этого при колхозном шофере, подрывая отцовский авторитет, хотя шофер, разумеется, всё понял...
(Когда я уже учился в Москве и приезжал в родительский дом в Ставрополь, мы с отцом откровенно беседовали на политические темы, и он не одобрял моего созревавшего бунтарства против системы: «погоди, вот схватит тебя жизнь ‒ тогда поймешь, что это такое». То есть в основе его лояльности лежал страх, а не добровольный выбор. И когда этот страх стал исчезать в годы "перестройки", он стал, к счастью, освобождаться от советского морока, также и мама, раньше него и серьезнее... Новым препятствием на этом пути освобождения у отца стало то, что свергнувшие коммунизм перекрасившиеся в "демократов" партийные функционеры не могли быть привлекательной альтернативой: в сравнении с прежними служилыми коммунистами они проявили себя как откровенные эгоисты-разрушители, цинично отвергнувшие и былой "нравственный кодекс строителя коммунизма", который паразитировал на лучших человеческих качествах для целей античеловечной системы.)
В детском саду мне всё более-менее нравилось, кроме яичницы-глазуньи, жареного лука и молочных пенок, а также мне не удавалось засыпать в "мертвый час" после обеда: я разглядывал шероховатости крашеной штукатурки на стенке над кроватью и мысленно находил в ней различные изображения наподобие заданий на внимательность: "найди охотника в кустах".
На днях (ноябрь 2020 г.), разбирая мамины письма, я нашел конверт с письмом моей детсадовской воспитательницы Александры Савельевны Волковицкой (детсад № 1 з-да им. Кирова, Совколония, Деловой переулок), которая, в связи с нашим отъездом из Макеевки, в мае 1954 г. написала письмо "Воспитательнице детского сада, где будет находиться Миша Пахомов". Это первая в моей жизни официальная характеристика, в возрасте 5 с половиной лет.
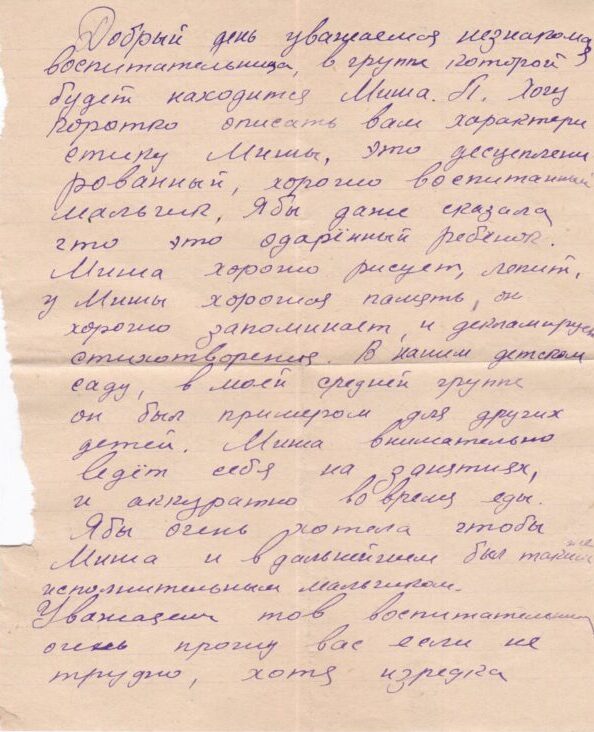

В прилагаемой "Выписке из истории развития ребенка" перечислены перенесенные мною тогда болезни (скарлатина, дизентерия, корь) и "антропометрические измерения на 3 апреля 1954 г.: вес 15,600, рост 103 см".
Но это письмо так и осталось безадресным, ибо следующего детсада у меня уже не было.
С тех пор мне не довелось побывать в Макеевке, хотя хотелось и планировал в последние годы, но помешала война в Донбассе, когда Макеевка попала в постоянную зону обстрела и границу с РФ для "туристов" закрыли. Место появления человека в мiр и первых лет его познания откладывается в онтологической памяти как ее начало, без которого всё дальнейшее не существовало бы. Вот почему у многих людей есть чувство родины, которое, бывает, просыпается даже в преклонном возрасте и заставляет собирать сведения о предках и даже посещать первые места своей жизни...
Так я и воспринимаю сейчас Макеевку как начало моего познания мiра, не "райского на земле", как хотелось бы, а далеко не во всем благоприятного, даже немного сурового, что приходится учитывать в своем стремлении к его познанию и своих возможностей и задач в этом мiре.
(Вторая половина этой главы тут не помещается, размещена далее: Бешпагир)
-

М.В. Назаров - Администраторы
- Сообщения: 7247
- Зарегистрирован: Вс окт 01, 2006 7:54 pm
- Откуда: Москва
Re: Ваша биография
ПРОДОЛЖЕНИЕ ГЛАВЫ 2
Бешпагир ‒ рай моего детства
В то послевоенное время свободно менять место работы, по собственному желанию, обычно не допускалось, разрешение можно было получить с большим трудом.
Из Макеевки родители вместе с бабушками уехали в 1954 году, воспользовавшись тогдашним призывом партии "Механизаторы ‒ в село!" (еще во время учебы в институте отец с отличием окончил курс тракторного дела), а главной причиной была медицинско-экологическая: от соседства с дымным заводом я постоянно болел и плохо рос. Не желая повторения со мной судьбы моей сестры Галочки, переехали в село Бешпагир на северокавказской возвышенности близ Ставрополя.
/// Бешпагир на карте Гугля из космоса///
Если сравнить с растением, то в Макеевке я рос в виде чахлого болезненного стебелька, а в Бешпагире он окреп и стал более жизнеспособен. Макеевка запечатлелась в моей памяти в виде черно-белых "фотографий", а Бешпагир ‒ в уже виде цветных.
Село было основано в конце XVIII века для укрепления южных рубежей границы России (Азово-Моздокская укрепленная линия) казаками и переселенцами из южных губерний России и, согласно некоторым источникам, поначалу называлось Покровское ‒ по названию первой построенной там церкви Покрова Божией Матери. Село располагалось между песчаных холмов, с одной стороны поросших сосновым бором, с другой ‒ лиственной рощей. Из-под холмов (жители называют их горами) текли ручьи ‒ отсюда происходило и название Бешпагир на языке тюркских кочевников, ранее знавших это благодатное место: то ли пять ключей, то ли пять гор (скорее первое, так как гор там меньше пяти, впрочем: что считать горами).
Первые же дни и ночи в Бешпагире вызвали лавину новых впечатлений из совершенно нового для меня мiра: незнакомые звуки, травы и цветы, насекомые, птицы и животные. В Макеевке я никогда не видел даже живую корову, а тут рано утром, еще в полумраке, сельский пастух тарзаньим криком (как в популярном тогда трофейном фильме), поначалу меня пугавшим, созывал большое стадо, чтобы вести его в поля для выпаса, а в конце дня пригнанные в село коровы, пахучие чем-то приятным, сами расходились по своим дворам. Экзотический колорит придавали непонятные поначалу звуки удодов, которых было очень много в холмистых окрестностях, ночные трели сверчков и удивительно многозвездное небо, которого я у металлургического завода таким никогда не видел. (Лишь однажды, когда бабушка взяла меня с собой к родственникам в Решетиловку, помню что-то подобное и звезду, упавшую с неба "в огород", куда я побежал ее искать, вызвав смех взрослых...)

Бабушки Ефросинья Митрофановна (справа) и ее сестра Устинья Митрофановна. Село Бешпагир, 1955.
Первое время мы жили в одноэтажном доме, расположенном между территорией школы и сельсоветом, находившимся через дорогу. Позже в этом доме была сельская библиотека. В этом доме я научился читать, вернее ‒ обнаружил, что умею читать те тексты, которые знал наизусть, как-то это произошло само собой. Значит, буквам меня еще в Макеевке обучили. А наизусть я знал многие стихи Барто и Чуковского, например, "Мойдодыр" – о мальчике-грязнуле, от которого убежали все его вещи, но ситуацию спасает умывальник Мойдодыр, насильно моющий мальчика, после чего вещи возвращаются к нему.
Рядом с этим первым нашим домом располагался длиннющий сарай, заполненный сеном, обломками телег и всяким старьем, в котором было интересно лазить. Однажды в сене я нашел иностранную банкноту, вероятно германскую военного времени, но старшие мальчишки уговорили меня отдать ее им. (Бешпагир во время войны около полугода находился под немцами.)
Позже нам выделили новый, специально построенный "финский" домик (на улице Одноребровка, на западной окраине села) с большим участком земли для огорода (около 30 соток) , за ним начиналось древнее кладбище, видимо, не христианское, на котором могилы уже были неразличимы, кроме одной в виде небольшого курганчика, обложенного большими каменными блоками. Земля была очень плодородная, зернозем. Поодаль от дома мы сажали подсолнечник и кукурузу (на корм курам), арбузы, картошку, поближе к дому ‒ разнообразные овощи. У меня была своя грядка, где росло всего понемногу, и вследствие особенного ухода с регулярным поливом всё вырастало крупнее, полуметровую морковку (одну единственную) пришлось долго выкапывать.
Если в Макеевке дары земли были в виде угля и руды, со шлаковыми отвалами и терриконами, то бешпагирский огород дал мне философский опыт "кормления человека от земли", ощущение ее божественной природной силы, питающей семя, которое чудесно, почти "из ничего", по заложенной в нем программе развивается в растение и дает человеку плод. Это ощущение проявилось у меня в дальнейшем в любви к растениям и к земле (эта любовь к земле вспыхнула новой силой, когда уже в преклонном возрасте в 2007 году у нас появилась подмосковная дача, а затем мы, продав квартиру в Москве, перебрались в собственный дом в Подмосковье, и зимой я мечтал, размечая участок на бумаге, где что весной посажу для произрастания).
Привыкание к сельской жизни было благотворным, но и порою опасным без практического опыта, я бы не отпускал своего шестилетнего городского ребенка вот так сразу гулять с ватагой сельских мальчишек. Впрочем, именно они обучали меня своему жизненному опыту. Так, в первый день я собрал букет из показавшихся красивыми ядовитых цветов какого-то дурмана, за что меня дружно высмеяли ‒ оказалось и в раю есть запретные плоды: и волчьи ягоды, и колючки, и змеи, и опасные насекомые, в том числе просто отвратительные своим видом и вонью. (Опять-таки впоследствии эти детские открытия пригодились мне и для размышлений о зле в мiре на философском уровне.) Но в целом всё же эти три года прошли для меня как в раю, оставив впечатление на всю жизнь. Как же обедняет развитие детей жизнь в городских каменно-асфальтовых джунглях...

Более всего я подружился с Валиком Рассохиным (на фото), соседским сыном хромой матери-одиночки, он был годом старше меня и был моим путеводителем по бешпагирскому раю и его окрестностям. (Он потом стал военным летчиком.) И однажды он спас меня, когда я, еще не умея плавать, тонул в Инвалидском пруду в, казалось бы, мелком месте рядом с берегом, потому что там оказалась яма, невидимая сверху. Это была вторая (после болезни в Макеевке) близость к смерти, уже более осознанная. Как бы огорчились мои родители, подумал я тогда, но мы им ничего об этом не сказали.
(Тогда же было и впечатление от знакомства со смертью другого человека: на нашей улице умерла девушка Виолетта. Я присутствовал на похоронах и невольно задумался о смерти, которая, получается, живет среди нас и являет себя, когда хочет, и непонятно, почему это так...)
Пруд был сделан искусственно перекрытием оврага земляной дамбой, и в него, под руководством моего отца, была пущена рыба. Мы ее с группой сельчан набрали в бочки в рыбном пруду (возможно, там рыбу разводили специально) в паре километров от села на речке Бешпагирка, когда там прорвало дамбу и множество народа пришло собирать рыбу в образовавшихся лужах. Не вся рыба выжила, немало мелкой полуживой теснилось у берега пруда, и несколько мальчишек возрастом постарше моего зло били ее по головам ‒ я пожаловался отцу, но предводитель этих садистов, кажется у него один глаз был с бельмом, оправдался: мол, мы ее отталкиваем от берега в воду, ‒ и отец наивно поверил ему, а не мне: "Вот видишь, они ее спасают...". Странное было такое знакомство с безпричинным злом. Потом эти садисты поймали нас с Валиком и заставили его зубами вытаскивать из земли забитый в нее алюминиевый штырь, меня почему-то не тронули...
В Бешпагире прошли первые три класса школы (1955‒1958), куда меня приняли "на вырост", так как до положенных семи лет не хватало 18 дней, но моим важным на селе родителям руководство школы пошло навстречу. Наш класс располагался, если я позже правильно вычислил это по дореволюционным книгам и разрозненным интернетным публикациям, в бывшем церковном комплексе (возможно, в церковно-приходской школе) ‒ двухпрестольного Крестовоздвиженского храма (второй престол – во имя Покрова Пресвятой Богородицы), строительство было завершено примерно в 1810 г.; разрушение храма при коммунизме начато в 1936 г., окончено в 1943 году.

Окончание 1-го класса, с. Бешпагир Ставропольского края, 1956 г. Учительца – Полина Михайловна Закота.
В 2007 году мы с женой побывали в этом раю моего детства, зашли и в мою бывшую маленькую школу, где уже размещались какие-то захламленные мастерские, а на полу валялся триптих иконы Божией Матери с короной на главе, три одинаковых фоторепродукции на одном листе.

Подняв икону с пола, я почувствовал в этом знак ‒ напоминание о своем жизненном задании, прозвучавшем в этих стенах в моем детстве, чтобы теперь напомнить мне о небрежности в его выполнении. Мне тогда вспомнились слова моей первой учительницы, сказавшей мне в этом здании примечательные слова о моем будущем, которые я тут не стану повторять (рассказал супруге).
Справка (ноябрь 2021). Моя супруга лишь недавно, в связи с моими воспоминаниями, заинтересовалась этой иконой и нашла в интернете такую информацию о ней. Это один из списков иконы Божией Матери "Скоропослушница" (греч. Γοργοεπήκοος — "Горгоэпикоос") — икона Божией Матери, почитаемая чудотворной. Оригинал иконы написан на Святой Горе Афон в X—XI веках, по монастырскому преданию, во время жизни настоятеля обители преподобного Неофита, и хранится в монастыре Дохиар.
Чудесно явившись одному из ослепших монахов она велела передать братии:
«Я — их покров и защита монастыря, посвящённого архангелам. Пусть они и все православные прибегают ко Мне в нуждах, и никого Я не оставлю. Всем призывающим Меня буду Я Предстательница, и по ходатайству Моему Сын Мой исполнит прошения их. И будет икона Моя именоваться Скоропослушницей, потому что всем притекающим к ней буду являть Я милость и услышание скорое».
После этих слов монах прозрел, и весть о его излечении моментально разошлась по Афону. В Дохиарском монастыре установилось особое и постоянное чествование, для чего проход в трапезную, у входа в которую размещалась икона, был закрыт, и было установлено подобие часовни. Недалеко от иконы выстроили храм в честь образа Скоропослушницы. Безотлучно перед иконой стоял избранный монах, следивший за лампадами и совершавший молебны. Престольный праздник 8 (21) ноября ‒ Собор архистратига Михаила (день моих именин! неужели просто случайное совпадение?). Празднование иконе на следующий день ‒ 9 (22) ноября. (Это изображение списка иконы находится и в древнем греческом монастыре св. Архангела Михаила на о. Родос.)
По всей России известны десятки храмов в честь иконы Божией Матери Скоропослушница и многие ее чудотворные списки. Невский список особо почитался Великой княгиней прп. Елизаветой Фёдоровной, а также свв. Императором Николаем II и его семьёй. В семье моей супруги Надежды также почиталась эта икона в серебряном окладе, теперь она с 2000 года в нашем домашнем иконостасе. (Еще одно случайное совпадение?)
Первая учительница Полина Михайловна Закота относилась ко мне по-особенному, не только потому, что я был сыном начальства (отец был главным инженером МТС, машинно-тракторной станции, ‒ высоким по рангу человеком в селе после председателя колхоза им. Ленина, а мама устроилась служащей за пишущей машинкой в конторе близ той же МТС). Дело в том, что в то время у меня была очень хорошая память: я знал все географические названия на карте СССР (география была моим любимым предметом, любил рассматривать атлас мiра), и мне достаточно было прочесть страницу текста из "Родной речи", чтобы точно воспроизвести ее устно по памяти. Поначалу учительница делала мне замечания, чтобы я не зазубривал тексты, а пересказывал своими словами, развивая собственные речевые навыки. Я стал этой своей памяти стесняться. Однажды на уроке она дала нам задание: прочесть новый текст и тут же пересказать его, и вызвала к доске меня. Сначала я притворялся, что якобы текст плохо запомнил, делал паузы, что-то нарочно мямлил, подражая другим ученикам, а потом, устав от такого кривляния, стал шпарить точно так, как запомнил, и учительница поняла, что я притворялся. Тут она и сказала те свои слова, поставив меня перед всем классом: "Смотрите дети, он будет..." (опускаю ее прогноз, кем я должен был стать, по ее мнению, тем более что так и не стал).
В нашем классе мне очень нравилась Катя Машкова (на фотографии первого класса она стоит позади меня, крайняя справа). Это опять-таки иллюстрация к размышлению о природе человека. В этом возрасте уже не могло быть такой простодушной откровенности, как с макеевской Людой, чувствовалась разделительная половая граница, но и сексуального влечения не было, а было инстинктивное, таинственно-магнитное притяжение женской красоты... Но дружбы с Катей не получилось, вероятно, я стеснялся своего маленького роста. Примерно в то время я уже узнал из уличного "секспросвета", откуда берутся дети, хотя и отнесся к этому недоверчиво: зачем так сложно и неправдоподобно?..
После первого класса родители отправили меня в пионерский лагерь в Ставрополь, близ Комсомольского пруда со стороны Ташлы. Помню, там на меня напала сильная тоска от разрыва с домом, будто я лишился жизненной основы, я плакал, не понимая и сам причину, не мог ее объяснить старшим, подтвердив их предположение, что якобы меня кто-то обидел. Это был опыт ностальгии в миниатюре.
Там у меня возникло воспаление уха (ночью я вышел босиком в туалет, и от холодного кафельного пола сквозь все мое тело что-то острое пронзило меня по нервам в ухо). В лагерной больнице я стал шахматной достопримечательностью ‒ почему-то никто не мог у меня выиграть, хотя ко мне в палату приводили детей постарше (шахматам меня научила мама, но специально я этим не занимался, играл чисто интуитивно).
Родители очень хотели, чтобы я научился играть на пианино, и мне пришлось для этого ходить на уроки к педагогу Ильюшкину, несмотря на мое равнодушие к этому занятию. Я часто прогуливал, и однажды, встретившись со мной на улице, Ильюшкин спросил меня, почему я не пришел на урок. Единственное, что я нашелся ответить: "фуражку не нашел", он засмеялся, ‒ после чего родители меня от этой повинности освободили.
В селе к моим родителям относились с уважением как к городской "интеллигенции", и они дружески общались (судя по фотографиям праздничного застолья) тоже с городской интеллигенцией, приехавшей в село учителями, научными работниками-овцеводами (ВНИИОК) и др. Мама следила за возможностью приобретения технических новинок: у нас была машина "Москвич-401" (купленная еще в Макеевке), стиральная машина, холодильник, пылесос ‒ всё это было в диковинку сельчанам, и некоторые приходили посмотреть эти чудеса социалистической промышленности.
Правда, подача электричества в селе была непостоянной, сейчас уже не помню, может быть, только по вечерам? Ведь днем свет не нужен. Но помню, как однажды мама просила отца дать электричество в нужное ей время (видимо, электрогенераторы находились в МТС).
Поскольку в то время не было телевидения, по вечерам, бывало, всей семьей проводили время за игрой в лото (даже отец играл), ‒ кто первый заполнит ряд цифр на своей карте, а цифры вытаскивает поочередно один из участников, некоторые цифры назывались особо: барабанные палочки (11), петушки (55), топорики (77). Мама покупала и какие-то настольные коллективные игры с бросанием кубиков и передвиганием фишек. С мамой мы играли в шахматы и в "уголки". Было у нас много рисованных детских диафильмов с текстами для сопроводительного чтения, часто на эти сеансы приходили и другие ребята. Это был целый ритуал, в темной комнате, воспринимавшийся как настоящее кино. (Киноклуб в Бешпагире тоже был, и бабушки брали меня с собой, более всего запомнились жалостные индийские фильмы про бедного бродягу.)
Больше всего из диафильмов мне нравились "Приключения Буратино", которые я просматривал по многу раз и перечитывал одноименную книжку с картинками. Эта итальянская сказка в переложении А.Н. Толстого была уже с социалистической основой борьбы против угнетателей (Карабаса-Барабаса и властей) за светлое будущее, открываемое в счастливом эпилоге в виде кукольного театра чудной красоты. Книжка была очень популярна в СССР, как и "Приключения Чипполино", который борется против притеснений бедняков со стороны богачей. Особенно мне нравились "Три толстяка" Юрия Олеши ‒ о революции, поднятой бедняками под предводительством оружейника Просперо и гимнаста Тибула против богачей (Толстяков) в выдуманной стране. В этих детских "бестселлерах" привлекательной была борьба добра со злом, разумеется, о том, что в их воспитательной основе была коммунистическая идеология, я не знал.
Из малоприятных теперь воспоминаний того периода надо отметить, что мой отец как заядлый охотник-сибиряк не только брал меня на охоту (однажды на облаву на волков в Янкульском лесничестве, которых не обнаружили, но случайно застрелили несчастную лису), приучая к азартному убийству животных и птиц, в том числе якобы "вредных" степных хищников (коршунов и однажды огромного степного орла, которого теперь мне особенно жалко), но и купил мне пневматическое ружье, из которого я довольно метко стрелял якобы тоже "вредных" воробьев (которых сельчане называли "жидами"). Кажется, это совпало с кампанией по уничтожению воробьев в Китае как "вредителей, пожирающих зерно". Своим детям я такого разгуливания с ружьем и стрельбы по птицам ни в коем случае не позволил бы (да это было и невозможно в Германии).
Поскольку в связи с "вредными" воробьями я упомянул Китай, следует напомнить, что в те годы у СССР с ним была большая дружба: "Русский с китайцем братья навек!". В газете "Пионерская правда", которую мне выписывали родители, был даже дружественный уголок китайского языка, и некоторые слова я запоминал. Наверное, по китайскому примеру родители поручили мне и уничтожение мух в доме, пообещав что-то платить за определенное количество. Я стал специально запускать мух в дом для "заработка", после чего родители поняли свою оплошность и отменили это расточительное для них задание.
Тогда же меня посетила страсть к деньгам ‒ я завел себе копилку для сбора денег на покупку модели лимузина ЗИЛ с ручным приводом и на поездку в Москву. Я постоянно и успешно выпрашивал у родителей мелочь, пытался продать уличным мальчишкам не нужные им книжки и открытки, убеждая в их ценности (цена указывалась на самих этих предметах), собирал цветы ромашки для сдачи на сборный пункт. Кажется, он помещался на юго-восточной окраине села в странной лавке странно косившего человека, который выглядел каким-то единоличником, "несистемным" (сказали бы сейчас). Ему можно было приносить лекарственные растения и куриные яйца, но взамен он обычно давал детям вместо копеек ‒ рыболовные крючки, поплавки и подобные мелочи.
Бешпагир запомнился в моей памяти и такими особенностями, которые мне больше нигде не встречались: большое количество удодов, особенно на поросшем шелюгой склоне (его сельчане называли "шелег") ниже соснового бора. а выше ‒ в жаркие летние дни сладковатый запах степных трав с безсмертниками... В селе были тутовые деревья ‒ тутовник черный (красно-черный, кисловатый в недозрелом виде) и белый (розовый, приторно-сладкий) ‒ мы им объедались. Однажды на окраине за старым кладбищем случился пожар: горел сарай, и забравшийся на него "спасатель" сбрасывал с крыши огромные тыквы, которые разбивались на оранжевые осколки...
В эти годы новый правитель СССР Хрущев стал вновь усиливать атеистическую пропаганду. В селе после войны был построен молитвенный дом (теперь на его месте новая Крестовоздвиженская церковь). Мой отец дружил с председателем сельсовета Георгием Федоровичем Половинкиным, с которым приключилась неприятная история. У него умерла мать, и он устроил ей православные похороны с отпеванием. За это он поплатился должностью: был с позором уволен и, кажется, исключен из партии, он весь как-то осунулся, почернел, заболел сердцем. Такие были времена в эпоху хрущевской "оттепели" и десталинизации...
В октябрятах, по-моему, мне не довелось побывать: не помню, чтобы я носил значок ‒ звезду с детским портретом Ленина. И даже когда наш класс сделали пионерами, кажется, я спросил пионервожатую Машу: а почему мы не были октябрятами, она ответила, что были, просто были еще маленькими и этого не заметили. А про пионеров хорошо помню, так как меня назначили председателем совета отряда. В чем заключалась моя и вообще пионерская работа ‒ не помню. Разве что запомнились концерты самодеятельности (стихи, песни, танцы) на представлениях перед родителями и однажды выезд в кузове грузовика на районный песенный слет.
В связи с художественной самодеятельностью упомяну один "политический" эпизод, который во времена Сталина мог обернуться заключением для родителей, кажется, Тани Степановой, которая, выступая со сцены с песней "Яблочко", вместо: "А буржуйская власть провалилася", спела: "А советская власть провалилася". Оторопевшие родители в зале стали молча переглядываться, я тоже возмутился такой "антисоветчине", но стоявшая рядом Полина Михайловна сразу всё мудро уладила: "Таня просто устала и оговорилась" ‒ после чего Таня спела куплет заново правильно...
Большое впечатление произвела поездка с мамой в Москву-столицу по окончании первого класса. Ночью в поезде мама меня разбудила, чтобы показать краешек моря, мимо которого мы ехали (то было Азовское море, оно мерцало вдали в полумраке при лунном свете). Потом у нашего класса была групповая поездка с вожатой Машей на это Азовское море и там небольшой пеший поход из Таганрога по побережью, где был очень неприятный запах от тухлой рыбы, испортившей все воспоминания о походе.
В Москве у нас с мамой была выполнена вся положенная программа: кремль, музеи, зоопарк, планетарий. В мавзолей меня водила Бабуся ‒ бабушка Ефросинья, которая к тому времени переехала в Москву и занималась родившейся внучкой Женей ‒ дочерью маминой сестры Надежды Кузьминичны. Вся их семья, включая парализованную мать дяди Игоря (тетиного мужа), теснилась в одной маленькой комнатке в коммунальной квартире (ул. Чайковского, д. 7/1 кв. 28). А тут еще и мы приехали ‒ удивляюсь, как там мы все помещались, конечно, стелили нам на полу, занимая проход с обеих сторон центрального стола...
Очередь в мавзолей была огромной, в основном это были гости столицы, ибо посещение мавзолея считалось для них в СССР негласным правилом, вернее, он был главной достопримечательностью. Мы пришли до начала движения очереди, тем не менее заняли место лишь у Боровицких ворот (за километр от мавзолея), но движение происходило довольно быстро, так как задерживаться в склепе не разрешалось. Там меня удивило, что головы Ленина и Сталина как бы светятся изнутри, и я громко спросил у бабушки: "А у них в головах лампочки?", ‒ нарушив скорбную тишину вереницы людей, медленным шагом проходивших мимо законсервированных мумий вождей. Находившийся там охранник мгновенно подбежал и зашикал на меня вместе с бабушкой, испуганно глядевшей на него, а не на меня. (Когда я второй раз побывал там во время институтской стажировки в "Интуристе", в мавзолее Сталина уже не было, и голова оставшегося одиноким первого вождя уже не светилась.)
Впечатлял и сам огромный город с потоками машин, где на каждой улице имелись автоматы с газированной водой и продавалось мороженое (в Бешпагире его не было, привозили лишь на 1 мая из Ставрополя, когда народ собирался на маевку в сосновом бору). В Москве я тогда объелся мороженым и газировкой, после чего на всю жизнь пропал вкус к сладкому.
По той же причине у меня не было тяги к никотину: перекурил примерно во втором-третьем классе в Бешпагире (мы собирали окурки в летнем кинозале под открытым небом), отравился и меня тошнило пару дней (родители так и не узнали причину). Потом мне бывало плохо от одного запаха табачного дыма. Таково было мое "научение от обратного". (Лишь гораздо позже, во время тяжелой работы в институтском стройотряде на Енисее, ненадолго проснулась тяга к сладкому, мы покупали в сельпо и с удовольствием ели слежавшиеся подушечки с повидлом; и курил там вместе со всеми.)
Второй раз в Москву я отправился после третьего класса, причем без сопровождения родителей: мама попросила присматривать за мной проводницу и гандбольную команду, кажется из Иванова, возвращавшуюся с турнира. Поезд шел около суток. Эта поездка запомнилась уже меньше, так как всё удивление было израсходовано на первую. Еще из тех впечатлений помню старьевщика, появлявшегося во дворе с криком: "Старье берем!" ‒ и дававшего детям сахарные петушки на деревянных палочках. Также непривычен был московский говорок соседского мальчика Курдюмова, с которым мы подолгу играли во дворе: я его речь поначалу с трудом понимал, так как москвичи сводят до минимума звучание безударных гласных в словах (редукция) и имеют свою несколько развязную интонацию, тогда как у меня было более близкое к письменному тексту южное произношение (не только от Макеевки, но и от Бешпагира, где в языке местного казачьего населения было сильное украинское фонетическое влияние).
В 1958 году Хрущев распорядился ликвидировать МТС как государственные предприятия и передать их колхозам, то есть все сотрудники МТС должны были стали членами колхоза. А в то время у колхозников не было паспортов и они не имели права покидать село без соответствующей справки от начальства, а также им не полагалась пенсия. (Лишь постановлением Совета Министров СССР от 28.08.1974 г. на проживающих в сельской местности была распространена общегражданская паспортная система; согласно этому постановлению, выдача паспортов «гражданам СССР, которым ранее паспорта не выдавались», должна была быть осуществлена «в срок с 1 января 1976 г. по 31 декабря 1981 г.», фактически в отдаленных местностях затянулась до 1989 года.)
Превратиться в колхозных рабов мои родители не захотели, и мы переехали в краевой центр - Ставрополь.
Бешпагир ‒ рай моего детства
В то послевоенное время свободно менять место работы, по собственному желанию, обычно не допускалось, разрешение можно было получить с большим трудом.
Из Макеевки родители вместе с бабушками уехали в 1954 году, воспользовавшись тогдашним призывом партии "Механизаторы ‒ в село!" (еще во время учебы в институте отец с отличием окончил курс тракторного дела), а главной причиной была медицинско-экологическая: от соседства с дымным заводом я постоянно болел и плохо рос. Не желая повторения со мной судьбы моей сестры Галочки, переехали в село Бешпагир на северокавказской возвышенности близ Ставрополя.
/// Бешпагир на карте Гугля из космоса///
Если сравнить с растением, то в Макеевке я рос в виде чахлого болезненного стебелька, а в Бешпагире он окреп и стал более жизнеспособен. Макеевка запечатлелась в моей памяти в виде черно-белых "фотографий", а Бешпагир ‒ в уже виде цветных.
Село было основано в конце XVIII века для укрепления южных рубежей границы России (Азово-Моздокская укрепленная линия) казаками и переселенцами из южных губерний России и, согласно некоторым источникам, поначалу называлось Покровское ‒ по названию первой построенной там церкви Покрова Божией Матери. Село располагалось между песчаных холмов, с одной стороны поросших сосновым бором, с другой ‒ лиственной рощей. Из-под холмов (жители называют их горами) текли ручьи ‒ отсюда происходило и название Бешпагир на языке тюркских кочевников, ранее знавших это благодатное место: то ли пять ключей, то ли пять гор (скорее первое, так как гор там меньше пяти, впрочем: что считать горами).
Первые же дни и ночи в Бешпагире вызвали лавину новых впечатлений из совершенно нового для меня мiра: незнакомые звуки, травы и цветы, насекомые, птицы и животные. В Макеевке я никогда не видел даже живую корову, а тут рано утром, еще в полумраке, сельский пастух тарзаньим криком (как в популярном тогда трофейном фильме), поначалу меня пугавшим, созывал большое стадо, чтобы вести его в поля для выпаса, а в конце дня пригнанные в село коровы, пахучие чем-то приятным, сами расходились по своим дворам. Экзотический колорит придавали непонятные поначалу звуки удодов, которых было очень много в холмистых окрестностях, ночные трели сверчков и удивительно многозвездное небо, которого я у металлургического завода таким никогда не видел. (Лишь однажды, когда бабушка взяла меня с собой к родственникам в Решетиловку, помню что-то подобное и звезду, упавшую с неба "в огород", куда я побежал ее искать, вызвав смех взрослых...)

Бабушки Ефросинья Митрофановна (справа) и ее сестра Устинья Митрофановна. Село Бешпагир, 1955.
Первое время мы жили в одноэтажном доме, расположенном между территорией школы и сельсоветом, находившимся через дорогу. Позже в этом доме была сельская библиотека. В этом доме я научился читать, вернее ‒ обнаружил, что умею читать те тексты, которые знал наизусть, как-то это произошло само собой. Значит, буквам меня еще в Макеевке обучили. А наизусть я знал многие стихи Барто и Чуковского, например, "Мойдодыр" – о мальчике-грязнуле, от которого убежали все его вещи, но ситуацию спасает умывальник Мойдодыр, насильно моющий мальчика, после чего вещи возвращаются к нему.
Рядом с этим первым нашим домом располагался длиннющий сарай, заполненный сеном, обломками телег и всяким старьем, в котором было интересно лазить. Однажды в сене я нашел иностранную банкноту, вероятно германскую военного времени, но старшие мальчишки уговорили меня отдать ее им. (Бешпагир во время войны около полугода находился под немцами.)
Позже нам выделили новый, специально построенный "финский" домик (на улице Одноребровка, на западной окраине села) с большим участком земли для огорода (около 30 соток) , за ним начиналось древнее кладбище, видимо, не христианское, на котором могилы уже были неразличимы, кроме одной в виде небольшого курганчика, обложенного большими каменными блоками. Земля была очень плодородная, зернозем. Поодаль от дома мы сажали подсолнечник и кукурузу (на корм курам), арбузы, картошку, поближе к дому ‒ разнообразные овощи. У меня была своя грядка, где росло всего понемногу, и вследствие особенного ухода с регулярным поливом всё вырастало крупнее, полуметровую морковку (одну единственную) пришлось долго выкапывать.
Если в Макеевке дары земли были в виде угля и руды, со шлаковыми отвалами и терриконами, то бешпагирский огород дал мне философский опыт "кормления человека от земли", ощущение ее божественной природной силы, питающей семя, которое чудесно, почти "из ничего", по заложенной в нем программе развивается в растение и дает человеку плод. Это ощущение проявилось у меня в дальнейшем в любви к растениям и к земле (эта любовь к земле вспыхнула новой силой, когда уже в преклонном возрасте в 2007 году у нас появилась подмосковная дача, а затем мы, продав квартиру в Москве, перебрались в собственный дом в Подмосковье, и зимой я мечтал, размечая участок на бумаге, где что весной посажу для произрастания).
Привыкание к сельской жизни было благотворным, но и порою опасным без практического опыта, я бы не отпускал своего шестилетнего городского ребенка вот так сразу гулять с ватагой сельских мальчишек. Впрочем, именно они обучали меня своему жизненному опыту. Так, в первый день я собрал букет из показавшихся красивыми ядовитых цветов какого-то дурмана, за что меня дружно высмеяли ‒ оказалось и в раю есть запретные плоды: и волчьи ягоды, и колючки, и змеи, и опасные насекомые, в том числе просто отвратительные своим видом и вонью. (Опять-таки впоследствии эти детские открытия пригодились мне и для размышлений о зле в мiре на философском уровне.) Но в целом всё же эти три года прошли для меня как в раю, оставив впечатление на всю жизнь. Как же обедняет развитие детей жизнь в городских каменно-асфальтовых джунглях...

Более всего я подружился с Валиком Рассохиным (на фото), соседским сыном хромой матери-одиночки, он был годом старше меня и был моим путеводителем по бешпагирскому раю и его окрестностям. (Он потом стал военным летчиком.) И однажды он спас меня, когда я, еще не умея плавать, тонул в Инвалидском пруду в, казалось бы, мелком месте рядом с берегом, потому что там оказалась яма, невидимая сверху. Это была вторая (после болезни в Макеевке) близость к смерти, уже более осознанная. Как бы огорчились мои родители, подумал я тогда, но мы им ничего об этом не сказали.
(Тогда же было и впечатление от знакомства со смертью другого человека: на нашей улице умерла девушка Виолетта. Я присутствовал на похоронах и невольно задумался о смерти, которая, получается, живет среди нас и являет себя, когда хочет, и непонятно, почему это так...)
Пруд был сделан искусственно перекрытием оврага земляной дамбой, и в него, под руководством моего отца, была пущена рыба. Мы ее с группой сельчан набрали в бочки в рыбном пруду (возможно, там рыбу разводили специально) в паре километров от села на речке Бешпагирка, когда там прорвало дамбу и множество народа пришло собирать рыбу в образовавшихся лужах. Не вся рыба выжила, немало мелкой полуживой теснилось у берега пруда, и несколько мальчишек возрастом постарше моего зло били ее по головам ‒ я пожаловался отцу, но предводитель этих садистов, кажется у него один глаз был с бельмом, оправдался: мол, мы ее отталкиваем от берега в воду, ‒ и отец наивно поверил ему, а не мне: "Вот видишь, они ее спасают...". Странное было такое знакомство с безпричинным злом. Потом эти садисты поймали нас с Валиком и заставили его зубами вытаскивать из земли забитый в нее алюминиевый штырь, меня почему-то не тронули...
В Бешпагире прошли первые три класса школы (1955‒1958), куда меня приняли "на вырост", так как до положенных семи лет не хватало 18 дней, но моим важным на селе родителям руководство школы пошло навстречу. Наш класс располагался, если я позже правильно вычислил это по дореволюционным книгам и разрозненным интернетным публикациям, в бывшем церковном комплексе (возможно, в церковно-приходской школе) ‒ двухпрестольного Крестовоздвиженского храма (второй престол – во имя Покрова Пресвятой Богородицы), строительство было завершено примерно в 1810 г.; разрушение храма при коммунизме начато в 1936 г., окончено в 1943 году.

Окончание 1-го класса, с. Бешпагир Ставропольского края, 1956 г. Учительца – Полина Михайловна Закота.
В 2007 году мы с женой побывали в этом раю моего детства, зашли и в мою бывшую маленькую школу, где уже размещались какие-то захламленные мастерские, а на полу валялся триптих иконы Божией Матери с короной на главе, три одинаковых фоторепродукции на одном листе.

Подняв икону с пола, я почувствовал в этом знак ‒ напоминание о своем жизненном задании, прозвучавшем в этих стенах в моем детстве, чтобы теперь напомнить мне о небрежности в его выполнении. Мне тогда вспомнились слова моей первой учительницы, сказавшей мне в этом здании примечательные слова о моем будущем, которые я тут не стану повторять (рассказал супруге).
Справка (ноябрь 2021). Моя супруга лишь недавно, в связи с моими воспоминаниями, заинтересовалась этой иконой и нашла в интернете такую информацию о ней. Это один из списков иконы Божией Матери "Скоропослушница" (греч. Γοργοεπήκοος — "Горгоэпикоос") — икона Божией Матери, почитаемая чудотворной. Оригинал иконы написан на Святой Горе Афон в X—XI веках, по монастырскому преданию, во время жизни настоятеля обители преподобного Неофита, и хранится в монастыре Дохиар.
Чудесно явившись одному из ослепших монахов она велела передать братии:
«Я — их покров и защита монастыря, посвящённого архангелам. Пусть они и все православные прибегают ко Мне в нуждах, и никого Я не оставлю. Всем призывающим Меня буду Я Предстательница, и по ходатайству Моему Сын Мой исполнит прошения их. И будет икона Моя именоваться Скоропослушницей, потому что всем притекающим к ней буду являть Я милость и услышание скорое».
После этих слов монах прозрел, и весть о его излечении моментально разошлась по Афону. В Дохиарском монастыре установилось особое и постоянное чествование, для чего проход в трапезную, у входа в которую размещалась икона, был закрыт, и было установлено подобие часовни. Недалеко от иконы выстроили храм в честь образа Скоропослушницы. Безотлучно перед иконой стоял избранный монах, следивший за лампадами и совершавший молебны. Престольный праздник 8 (21) ноября ‒ Собор архистратига Михаила (день моих именин! неужели просто случайное совпадение?). Празднование иконе на следующий день ‒ 9 (22) ноября. (Это изображение списка иконы находится и в древнем греческом монастыре св. Архангела Михаила на о. Родос.)
По всей России известны десятки храмов в честь иконы Божией Матери Скоропослушница и многие ее чудотворные списки. Невский список особо почитался Великой княгиней прп. Елизаветой Фёдоровной, а также свв. Императором Николаем II и его семьёй. В семье моей супруги Надежды также почиталась эта икона в серебряном окладе, теперь она с 2000 года в нашем домашнем иконостасе. (Еще одно случайное совпадение?)
Первая учительница Полина Михайловна Закота относилась ко мне по-особенному, не только потому, что я был сыном начальства (отец был главным инженером МТС, машинно-тракторной станции, ‒ высоким по рангу человеком в селе после председателя колхоза им. Ленина, а мама устроилась служащей за пишущей машинкой в конторе близ той же МТС). Дело в том, что в то время у меня была очень хорошая память: я знал все географические названия на карте СССР (география была моим любимым предметом, любил рассматривать атлас мiра), и мне достаточно было прочесть страницу текста из "Родной речи", чтобы точно воспроизвести ее устно по памяти. Поначалу учительница делала мне замечания, чтобы я не зазубривал тексты, а пересказывал своими словами, развивая собственные речевые навыки. Я стал этой своей памяти стесняться. Однажды на уроке она дала нам задание: прочесть новый текст и тут же пересказать его, и вызвала к доске меня. Сначала я притворялся, что якобы текст плохо запомнил, делал паузы, что-то нарочно мямлил, подражая другим ученикам, а потом, устав от такого кривляния, стал шпарить точно так, как запомнил, и учительница поняла, что я притворялся. Тут она и сказала те свои слова, поставив меня перед всем классом: "Смотрите дети, он будет..." (опускаю ее прогноз, кем я должен был стать, по ее мнению, тем более что так и не стал).
В нашем классе мне очень нравилась Катя Машкова (на фотографии первого класса она стоит позади меня, крайняя справа). Это опять-таки иллюстрация к размышлению о природе человека. В этом возрасте уже не могло быть такой простодушной откровенности, как с макеевской Людой, чувствовалась разделительная половая граница, но и сексуального влечения не было, а было инстинктивное, таинственно-магнитное притяжение женской красоты... Но дружбы с Катей не получилось, вероятно, я стеснялся своего маленького роста. Примерно в то время я уже узнал из уличного "секспросвета", откуда берутся дети, хотя и отнесся к этому недоверчиво: зачем так сложно и неправдоподобно?..
После первого класса родители отправили меня в пионерский лагерь в Ставрополь, близ Комсомольского пруда со стороны Ташлы. Помню, там на меня напала сильная тоска от разрыва с домом, будто я лишился жизненной основы, я плакал, не понимая и сам причину, не мог ее объяснить старшим, подтвердив их предположение, что якобы меня кто-то обидел. Это был опыт ностальгии в миниатюре.
Там у меня возникло воспаление уха (ночью я вышел босиком в туалет, и от холодного кафельного пола сквозь все мое тело что-то острое пронзило меня по нервам в ухо). В лагерной больнице я стал шахматной достопримечательностью ‒ почему-то никто не мог у меня выиграть, хотя ко мне в палату приводили детей постарше (шахматам меня научила мама, но специально я этим не занимался, играл чисто интуитивно).
Родители очень хотели, чтобы я научился играть на пианино, и мне пришлось для этого ходить на уроки к педагогу Ильюшкину, несмотря на мое равнодушие к этому занятию. Я часто прогуливал, и однажды, встретившись со мной на улице, Ильюшкин спросил меня, почему я не пришел на урок. Единственное, что я нашелся ответить: "фуражку не нашел", он засмеялся, ‒ после чего родители меня от этой повинности освободили.
В селе к моим родителям относились с уважением как к городской "интеллигенции", и они дружески общались (судя по фотографиям праздничного застолья) тоже с городской интеллигенцией, приехавшей в село учителями, научными работниками-овцеводами (ВНИИОК) и др. Мама следила за возможностью приобретения технических новинок: у нас была машина "Москвич-401" (купленная еще в Макеевке), стиральная машина, холодильник, пылесос ‒ всё это было в диковинку сельчанам, и некоторые приходили посмотреть эти чудеса социалистической промышленности.
Правда, подача электричества в селе была непостоянной, сейчас уже не помню, может быть, только по вечерам? Ведь днем свет не нужен. Но помню, как однажды мама просила отца дать электричество в нужное ей время (видимо, электрогенераторы находились в МТС).
Поскольку в то время не было телевидения, по вечерам, бывало, всей семьей проводили время за игрой в лото (даже отец играл), ‒ кто первый заполнит ряд цифр на своей карте, а цифры вытаскивает поочередно один из участников, некоторые цифры назывались особо: барабанные палочки (11), петушки (55), топорики (77). Мама покупала и какие-то настольные коллективные игры с бросанием кубиков и передвиганием фишек. С мамой мы играли в шахматы и в "уголки". Было у нас много рисованных детских диафильмов с текстами для сопроводительного чтения, часто на эти сеансы приходили и другие ребята. Это был целый ритуал, в темной комнате, воспринимавшийся как настоящее кино. (Киноклуб в Бешпагире тоже был, и бабушки брали меня с собой, более всего запомнились жалостные индийские фильмы про бедного бродягу.)
Больше всего из диафильмов мне нравились "Приключения Буратино", которые я просматривал по многу раз и перечитывал одноименную книжку с картинками. Эта итальянская сказка в переложении А.Н. Толстого была уже с социалистической основой борьбы против угнетателей (Карабаса-Барабаса и властей) за светлое будущее, открываемое в счастливом эпилоге в виде кукольного театра чудной красоты. Книжка была очень популярна в СССР, как и "Приключения Чипполино", который борется против притеснений бедняков со стороны богачей. Особенно мне нравились "Три толстяка" Юрия Олеши ‒ о революции, поднятой бедняками под предводительством оружейника Просперо и гимнаста Тибула против богачей (Толстяков) в выдуманной стране. В этих детских "бестселлерах" привлекательной была борьба добра со злом, разумеется, о том, что в их воспитательной основе была коммунистическая идеология, я не знал.
Из малоприятных теперь воспоминаний того периода надо отметить, что мой отец как заядлый охотник-сибиряк не только брал меня на охоту (однажды на облаву на волков в Янкульском лесничестве, которых не обнаружили, но случайно застрелили несчастную лису), приучая к азартному убийству животных и птиц, в том числе якобы "вредных" степных хищников (коршунов и однажды огромного степного орла, которого теперь мне особенно жалко), но и купил мне пневматическое ружье, из которого я довольно метко стрелял якобы тоже "вредных" воробьев (которых сельчане называли "жидами"). Кажется, это совпало с кампанией по уничтожению воробьев в Китае как "вредителей, пожирающих зерно". Своим детям я такого разгуливания с ружьем и стрельбы по птицам ни в коем случае не позволил бы (да это было и невозможно в Германии).
Поскольку в связи с "вредными" воробьями я упомянул Китай, следует напомнить, что в те годы у СССР с ним была большая дружба: "Русский с китайцем братья навек!". В газете "Пионерская правда", которую мне выписывали родители, был даже дружественный уголок китайского языка, и некоторые слова я запоминал. Наверное, по китайскому примеру родители поручили мне и уничтожение мух в доме, пообещав что-то платить за определенное количество. Я стал специально запускать мух в дом для "заработка", после чего родители поняли свою оплошность и отменили это расточительное для них задание.
Тогда же меня посетила страсть к деньгам ‒ я завел себе копилку для сбора денег на покупку модели лимузина ЗИЛ с ручным приводом и на поездку в Москву. Я постоянно и успешно выпрашивал у родителей мелочь, пытался продать уличным мальчишкам не нужные им книжки и открытки, убеждая в их ценности (цена указывалась на самих этих предметах), собирал цветы ромашки для сдачи на сборный пункт. Кажется, он помещался на юго-восточной окраине села в странной лавке странно косившего человека, который выглядел каким-то единоличником, "несистемным" (сказали бы сейчас). Ему можно было приносить лекарственные растения и куриные яйца, но взамен он обычно давал детям вместо копеек ‒ рыболовные крючки, поплавки и подобные мелочи.
Бешпагир запомнился в моей памяти и такими особенностями, которые мне больше нигде не встречались: большое количество удодов, особенно на поросшем шелюгой склоне (его сельчане называли "шелег") ниже соснового бора. а выше ‒ в жаркие летние дни сладковатый запах степных трав с безсмертниками... В селе были тутовые деревья ‒ тутовник черный (красно-черный, кисловатый в недозрелом виде) и белый (розовый, приторно-сладкий) ‒ мы им объедались. Однажды на окраине за старым кладбищем случился пожар: горел сарай, и забравшийся на него "спасатель" сбрасывал с крыши огромные тыквы, которые разбивались на оранжевые осколки...
В эти годы новый правитель СССР Хрущев стал вновь усиливать атеистическую пропаганду. В селе после войны был построен молитвенный дом (теперь на его месте новая Крестовоздвиженская церковь). Мой отец дружил с председателем сельсовета Георгием Федоровичем Половинкиным, с которым приключилась неприятная история. У него умерла мать, и он устроил ей православные похороны с отпеванием. За это он поплатился должностью: был с позором уволен и, кажется, исключен из партии, он весь как-то осунулся, почернел, заболел сердцем. Такие были времена в эпоху хрущевской "оттепели" и десталинизации...
В октябрятах, по-моему, мне не довелось побывать: не помню, чтобы я носил значок ‒ звезду с детским портретом Ленина. И даже когда наш класс сделали пионерами, кажется, я спросил пионервожатую Машу: а почему мы не были октябрятами, она ответила, что были, просто были еще маленькими и этого не заметили. А про пионеров хорошо помню, так как меня назначили председателем совета отряда. В чем заключалась моя и вообще пионерская работа ‒ не помню. Разве что запомнились концерты самодеятельности (стихи, песни, танцы) на представлениях перед родителями и однажды выезд в кузове грузовика на районный песенный слет.
В связи с художественной самодеятельностью упомяну один "политический" эпизод, который во времена Сталина мог обернуться заключением для родителей, кажется, Тани Степановой, которая, выступая со сцены с песней "Яблочко", вместо: "А буржуйская власть провалилася", спела: "А советская власть провалилася". Оторопевшие родители в зале стали молча переглядываться, я тоже возмутился такой "антисоветчине", но стоявшая рядом Полина Михайловна сразу всё мудро уладила: "Таня просто устала и оговорилась" ‒ после чего Таня спела куплет заново правильно...
Большое впечатление произвела поездка с мамой в Москву-столицу по окончании первого класса. Ночью в поезде мама меня разбудила, чтобы показать краешек моря, мимо которого мы ехали (то было Азовское море, оно мерцало вдали в полумраке при лунном свете). Потом у нашего класса была групповая поездка с вожатой Машей на это Азовское море и там небольшой пеший поход из Таганрога по побережью, где был очень неприятный запах от тухлой рыбы, испортившей все воспоминания о походе.
В Москве у нас с мамой была выполнена вся положенная программа: кремль, музеи, зоопарк, планетарий. В мавзолей меня водила Бабуся ‒ бабушка Ефросинья, которая к тому времени переехала в Москву и занималась родившейся внучкой Женей ‒ дочерью маминой сестры Надежды Кузьминичны. Вся их семья, включая парализованную мать дяди Игоря (тетиного мужа), теснилась в одной маленькой комнатке в коммунальной квартире (ул. Чайковского, д. 7/1 кв. 28). А тут еще и мы приехали ‒ удивляюсь, как там мы все помещались, конечно, стелили нам на полу, занимая проход с обеих сторон центрального стола...
Очередь в мавзолей была огромной, в основном это были гости столицы, ибо посещение мавзолея считалось для них в СССР негласным правилом, вернее, он был главной достопримечательностью. Мы пришли до начала движения очереди, тем не менее заняли место лишь у Боровицких ворот (за километр от мавзолея), но движение происходило довольно быстро, так как задерживаться в склепе не разрешалось. Там меня удивило, что головы Ленина и Сталина как бы светятся изнутри, и я громко спросил у бабушки: "А у них в головах лампочки?", ‒ нарушив скорбную тишину вереницы людей, медленным шагом проходивших мимо законсервированных мумий вождей. Находившийся там охранник мгновенно подбежал и зашикал на меня вместе с бабушкой, испуганно глядевшей на него, а не на меня. (Когда я второй раз побывал там во время институтской стажировки в "Интуристе", в мавзолее Сталина уже не было, и голова оставшегося одиноким первого вождя уже не светилась.)
Впечатлял и сам огромный город с потоками машин, где на каждой улице имелись автоматы с газированной водой и продавалось мороженое (в Бешпагире его не было, привозили лишь на 1 мая из Ставрополя, когда народ собирался на маевку в сосновом бору). В Москве я тогда объелся мороженым и газировкой, после чего на всю жизнь пропал вкус к сладкому.
По той же причине у меня не было тяги к никотину: перекурил примерно во втором-третьем классе в Бешпагире (мы собирали окурки в летнем кинозале под открытым небом), отравился и меня тошнило пару дней (родители так и не узнали причину). Потом мне бывало плохо от одного запаха табачного дыма. Таково было мое "научение от обратного". (Лишь гораздо позже, во время тяжелой работы в институтском стройотряде на Енисее, ненадолго проснулась тяга к сладкому, мы покупали в сельпо и с удовольствием ели слежавшиеся подушечки с повидлом; и курил там вместе со всеми.)
Второй раз в Москву я отправился после третьего класса, причем без сопровождения родителей: мама попросила присматривать за мной проводницу и гандбольную команду, кажется из Иванова, возвращавшуюся с турнира. Поезд шел около суток. Эта поездка запомнилась уже меньше, так как всё удивление было израсходовано на первую. Еще из тех впечатлений помню старьевщика, появлявшегося во дворе с криком: "Старье берем!" ‒ и дававшего детям сахарные петушки на деревянных палочках. Также непривычен был московский говорок соседского мальчика Курдюмова, с которым мы подолгу играли во дворе: я его речь поначалу с трудом понимал, так как москвичи сводят до минимума звучание безударных гласных в словах (редукция) и имеют свою несколько развязную интонацию, тогда как у меня было более близкое к письменному тексту южное произношение (не только от Макеевки, но и от Бешпагира, где в языке местного казачьего населения было сильное украинское фонетическое влияние).
В 1958 году Хрущев распорядился ликвидировать МТС как государственные предприятия и передать их колхозам, то есть все сотрудники МТС должны были стали членами колхоза. А в то время у колхозников не было паспортов и они не имели права покидать село без соответствующей справки от начальства, а также им не полагалась пенсия. (Лишь постановлением Совета Министров СССР от 28.08.1974 г. на проживающих в сельской местности была распространена общегражданская паспортная система; согласно этому постановлению, выдача паспортов «гражданам СССР, которым ранее паспорта не выдавались», должна была быть осуществлена «в срок с 1 января 1976 г. по 31 декабря 1981 г.», фактически в отдаленных местностях затянулась до 1989 года.)
Превратиться в колхозных рабов мои родители не захотели, и мы переехали в краевой центр - Ставрополь.
-

М.В. Назаров - Администраторы
- Сообщения: 7247
- Зарегистрирован: Вс окт 01, 2006 7:54 pm
- Откуда: Москва
Re: Ваша биография
3. ОТРОЧЕСТВО В ГОРОДЕ КРЕСТА
Отрочество ‒ это считающийся трудным переходный возраст от детства к юности, он у меня был с четвертого класса по восьмой, и эти годы в Ставрополе сделали его моим любимым городом, о смысле греческого названия которого я тогда не имел представления.
Город был основан в 1777 году как крепость на Азово-Моздокской оборонительной линии на возвышенности, с которой в ясную погоду, за двести километров, виден кавказский хребет и господствующий над ним Эльбрус. Там, в горах, уже живет и другой народ, нерусский, приезжающий оттуда в Ставрополь и отчасти живущий в нем со своими песнями и танцами, и эта новизна была интересна. А в самом городе были остатки суворовской крепости и старинные дореволюционные улицы в центре, с коваными ажурными козырьками над входами в дома. Крепость была построена в верхней части города, вниз местами довольно круто спускался широкий бульвар Карла Маркса (ранее Николаевский проспект) с фонтанами, а с самой вершины горки, которую когда-то увенчивал Собор Казанской Божией Матери (вместо него там установили памятник какому-то революционеру) ‒ вниз спускалась широкая каскадная лестница ‒ Комсомольская горка с "вечным огнем". Все старые здания были сложены из местного ракушечника, из него же были сделаны ворота с башенками, афишные тумбы, заборы и сточные канавы. Ракушечник ‒ это окаменевшие осаждения древних морских организмов, простиравшие мое археологическое воображение в далекое прошлое. Ставрополь тогда славился и огромным скелетом ископаемого слона, выставленного в краеведческом музее (где мне более всего запомнилась коллекция бабочек). (С 1935 по 1943 годы Ставрополь назывался Ворошиловском ‒ по имени видного большевика-соратника Сталина.)
В Ставрополе отец поначалу нашел работу в молочно-овощном колхозе "Ставрополец" (он располагался в городе), и нашу семью из пятерых человек (пятым был родившийся в Бешпагире в 1955 году Сергей; с нами осталась также Тетя Устя, а Бабуся уже в Москве нянчила внучку Женю) разместили в одной маленькой комнатке в служебном домике на пилораме по адресу: ул. Осипенко, 8. Туалет был во дворе, общий для нескольких семей в соседних строениях, отопление было печное углем. Не помню, где мы брали воду (видимо, носили из уличной колонки) для настенного рукомойника с висячим запорным стержнем, при поднятии которого лилась вода. Раз в неделю мы ходили мыться в городскую баню на ул. Ленина, там всегда была большая очередь. В смежной комнате жила молодая незамужняя женщина, которая, понимая нашу тесноту, пускала меня спать в свою комнату на раскладушке.
Сторожем этой территории был смиренный старичок-армянин Кероп Акопович, с которым подружилась Тетя Устя, и они вечерами подолгу беседовали о жизни. Во дворе пилорамы был большой амбар для хранения зерна, и мы с мальчишками (одноклассниками, приходившими ко мне в гости) любили забираться на стропила под крышу амбара и прыгать оттуда в мягкое зерно. Однажды этим развлечением я занимался в одиночестве и, спрыгнув, едва не утонул ‒ не знаю, как всё же удалось с помощью рук "вплавь" выбраться из затягивающей зерновой "трясины". Испытал страх смерти.
Отец и в Ставрополе не оставил своей мечты сделать меня пианиста. Он повел меня на дом к специалисту из музыкальной школы для проверки слуха. Заданные мне ноты я легко различал после прослушивания набора многочисленных других, отвлекающих. То есть хороший слух имелся, и отец заставил меня ходить на уроки к молодой учительнице-студентке, которая раздражалась моим равнодушием и исчеркала мне весь учебник в местах, где я делал ошибки. Быть может, если бы у нас дома был инструмент, я бы еще мог проявить больше интереса к игре, если бы мне еще и объяснили законы гармонии, но эти законы увлекли меня лишь позже, в техникуме. А вообще-то в музыке есть и "философия", в которую я, к сожалению, не вникал.
Правда, я недолго занимался в школьном струнном оркестре игрой на домре пикколо, научился исполнять тремоло, но не помню уже, как туда записался, видимо, за компанию с друзьями.
Учитель пения Серов заставил нас всех участвовать в большом школьном хоре, а четверых мальчишек отобрал для отдельного веселого песенного номера: «Между нами решено, решено: проживем лет двести мы...» (из кинофильма "Неподдающиеся") ‒ пели мы задорными голосами, хитро переглядываясь друг с другом, и пользовались большим успехом на городских смотрах самодеятельности, где наша школа занимала первые места. Но однажды с хором случился конфуз: при выходе хоровых рядов шеренгами на сценические подмостки в Зеленом театре нас запустили с другой стороны сцены, и хор разместился как бы в зеркальном отражении. Серов решил не перестраивать нас, но слаженного пения не получилось из-за психологической непривычности такого построения. Получился небольшой урок важности бытового "консерватизма".
Годы с четвертого по седьмой классы в школе № 3 ничем особенным не запомнились. Я по-прежнему легко и отлично учился (в русском языке я правила не заучивал, у меня образовалась так называемая "врожденная грамотность"), и поэтому меня опять сделали председателем пионерского отряда нашего класса. Из своих обязанностей (она же была и единственной) запомнилась общая школьная линейка в зале на втором этаже, когда председатель каждого класса должен был подходить "строевым" шагом к председателю школьной дружины и рапортовать о построении. Помню, что эта повинность, хотя и не частая, мне давалась с напряжением: как бы не ошибиться на глазах у всей школы...
Коммунистическую идеологию нам прививали в основном предметами "история" и "литература" ‒ то была трактовка русской классики (Пушкина, Лермонтова) в духе классовой борьбы и их противостояния "царизму", затем выбором соответствующих авторов, в основном советских "инженеров душ". Царская Россия рисовалась как царство мракобесия, отсталости, голода, нищеты, ‒ такой она у меня ассоциировалась с картиной безпросветной жизни на первых страницах книги "Мальчик из Уржума" (о детстве большевика Кирова): дома без электрического света с жестяными коптилками, грязь и пыль, злые псы в богатых домах, тюрьма для несчастных оборванных арестантов и у полосатой будки усатый часовой с ружьем. Из игрушек у Сережи был только тряпичный мячик, ела семья только постные щи и картошку. Болезнь, смерть и похороны матери, детский приют... С выводом: спасибо Великой октябрьской революции, что избавила народ от нищеты и безправия...
Детскими "иконами" в школе были Павлик Морозов, предавший раскулачиваемых родителей, и Павка Корчагин, боровшийся за коммунистическое счастье трудящихся и совершивший большое количество геройских поступков ‒ их именами называли пионерские отряды и улицы в городе. И, разумеется, важное место в идеологическом воспитании занимали книги Аркадия Гайдара (лишь во взрослом возрасте я узнал, что он был чекистом-садистом и психопатом). На основе его книги "Тимур и его команда" было организовано "тимуровское движение": анонимно творить добро пожилым людям, помню, весной нас послали помочь старушке собрать граблями листву в палисаднике, но она нас прогнала, потому что при этом мы по небрежности ломали появившиеся ростки цветов.
В виде пионерских заданий мы собирали макулатуру, металлолом (однажды "нашли" на соседней стройке новенькие трубы, за что нам попало), однажды нас отправили на прополку морковки в психбольницу (пациенты работали вместе с нами, тихие и хмурые), выезжали и в поля на прополку кукурузы. Но пионерская работа заключалась не только в этом или в художественной самодеятельности. Временами случалось наглядное "идеологическое воспитание". Однажды в наш класс пригласили человека, который "видел Ленина". Он был еще не таким уж старым, но в сильном подпитии едва держался на ногах и только мычал что-то нечленораздельное. Учительница была этим смущена, но всё равно эффект был достигнут: было доказано, Ленин и в самом деле существовал, причем не так уж давно.
Мiровоззренческое воспитание закладывала марксистско-дарвинистская зоология, включавшая в себя самовозникновение жизни из мертвой материи путем ее усложнения и происхождение человека из обезьяны благодаря труду. Таким образом, человек был вершиной зоологической лестницы и подвержен законам материального мiра, развивая его далее к "светлому будущему" коммунизма, под руководством мудрой партии. В этом состоял смысл жизни.
Но основным идеологическим воспитанием был метод "окунания" детского поколения в окружающий океан жизни с ее информационным фоном, священными" праздниками 1 мая и 7 ноября, коммунистическими названиями улиц и памятниками, портретами вождей, повсеместными агитационными плакатами. Всё это нами воспринималось без раздумий как должное устройство мiра, наподобие погоды и времен года: вот идет дождь, потом снег... СССР самая счастливая страна в мiре, и это счастье мы принесем всему человечеству. Но, конечно, где-то за границей злые капиталисты-империалисты этому счастью всегда мешают...
В классе на стенах висели давно изготовленные учениками "монтажи" к советским праздникам 1 мая, 7 ноября и другим. Это были вырезки из журнальных картинок, наклеенных на метровый лист плотной бумаги. Однажды я без всякой "антисоветской" подоплеки изорвал два таких "монтажа", искренне решив, что они устарели ‒ висят давно, надоели, те праздники прошли, и надо сделать новые. Классная руководительница, Евдокия Павловна Куля, мудро не стала придавать этому политическое значение (во времена Сталина не поздоровилось бы ни ей, ни моим родителям), а поручила мне сделать новый "монтаж", что я и сделал с вырезками из журнала "Огонек", которого у нас дома скопились залежи за несколько лет.
Примерно в шестом-седьмом классах у меня возникло "хулиганское" развлечение ‒ коллекционировать в дневнике записи учителей о плохом поведении на уроках: весь дневник был испещрен этими записями почти на каждой странице, но родители в него никогда не заглядывали, поскольку учился я только на отлично. Правда в седьмом классе забросил алгебру ‒ она у меня вызывала неприязнь своими абстрактными формулами с буквенными обозначениями чисел ‒ я не понимал, зачем это мне нужно. По просьбе учительницы маме пришлось заниматься со мной дома для восстановления допущенного мною пробела ‒ она и во взрослом возрасте помнила все формулы (неужели они ей были нужны в конструкторской работе?). И еще по рисованию у меня вырисовалась итоговая четверка ‒ она, единственная, потом перешла из 7 класса в свидетельство об окончании 8 классов.
В нашем классе запомнился как редкий экземпляр, не похожий на других, Сашка О., в котором уже с тех лет было очевидно что-то нечестное и наглое, однажды он украл у меня редкие почтовые марки из коллекции и показывал их всем как свои, и даже когда я его в этом уличил, он согласился возвращать их мне лишь по частям. (Если не ошибаюсь, отец его работал мясником, и у них был большой дом.) На дне рождения Сашки в седьмом классе я впервые попробовал алкоголь и шел домой опьяневшим.
Помимо марок, я коллекционировал спичечные этикетки (мы часто ходили на вокзал к прибытию московского поезда и выменивали у приезжих их иногородние спичечные коробки на местные). Однако вскоре большие наборы этикеток стали продаваться в магазинах, и это девальвировало данное мое увлечение, поскольку оно стало общедоступным и безразмерным. Сейчас я понимаю природу этого распространенного занятия: коллекционирование каких-то предметов особого рода ‒ это стремление к личному, по возможности наиболее полному, владению какой-то областью человеческого мiра, пусть и очень малой, но обозримой и твоей индивидуальной. И оно превращается в страсть и в абсолютную ценность даже у взрослых людей, порою замещая собой более важные жизненные ценности.
Также я собирал монеты и старинные деньги. Наибольшее пополнение в мою денежную коллекцию поступало от одноклассника Володи Ситнянского, бабушка которого хранила бумажные ассигнации с дореволюционных времен ‒ с царскими портретами и двуглавыми орлами. Помню, у них был особенный "царский" запах, которого не было у советских денег. То было материальное доказательство и отблеск отошедшего в прошлое таинственного старого мiра, который школьная история рисовала страшным и опасным и который поэтому, спасая нас, хирургическим скальпелем отрезала Великая октябрьская социалистическая революция, но от которого остался такой реальный чудесный аромат и картинки на банкнотах. Мне кажется, воспоминания об этих деньгах и об их таинственном запахе тоже каким-то чувственным образом вошли в мое созревавшее позже антисоветское мiровоззрение.
Разумеется, и влюбленность в эти годы была: ее звали Ира Доскина (жила на ул. Мира, 251), но она о моем чувстве к ней не знала, и ей больше нравился высокий Володя Ситнянский... (На общем фото окончания четвертого класса ее нет, она появилась в нашей школе позже.) Опять-таки в построении на уроках физкультуры по росту я был предпоследним ‒ по этому признаку меня нетрудно найти на этой фотографии, в центре...

Ставрополь, школа № 3, 4-й класс. Классная руководительница Евдокия Павловна Куля.
В отдельной мастерской в школьном дворе у нас были уроки труда, в ходе которых мы на токарных станках вытачивали болты, нарезали на них резьбу, изготовляли дверные крючки и регуляторы воды для туалетных бачков, видимо, потом находившие где-то и практическое применение. Это давало первые практические навыки обращения с инструментами, деревом и металлом.
Со школьным трудом был связан и неприятный случай: несколько мальчиков, включая меня, взялись за плату во внеурочное время сколачивать деревянные ящики с проволочной обвязкой. Не помню уже, сколько нам платили, конечно, копейки. Почему-то мы решили украсть часть дощечек, с которыми работали, я тоже прихватил, хотя мне они были совершенно не нужны. У дыры в школьном заборе нас кто-то из взрослых поймал, мы не отпирались и все назвали себя, так что на следующий день нас вчетвером вызвали к директору школы. Мы стояли перед ним строем, было стыдно и страшно, что нам будет? ‒ а он сурово ходил перед нами взад-вперед, курил, и пускал в нас дым. От дыма мне стало плохо на весь день... Но наказывать нас он не стал, ограничился внушением.
Более всего эти уроки труда запомнились мне тем, как вдохновенно наш преподаватель воспринял полет Гагарина ‒ как открывшуюся новую эпоху комических полетов в жизни человечества. С этого времени у меня возник интерес к космическим полетам, к космосу (к фантастике типа "Туманности Андромеды" Ефремова"), к его непознанным тайнам и, в частности, стала занимать непостижимая тайна безконечности (которая потом оказалась и основой моего плюралистического "экзистенциализма"). Тема "покорения космоса" в те годы была в СССР наглядным дополнением к "религии коммунизма" ‒ светлого будущего человечества, которое мы сейчас строим.
В 1961 году на ХХII съезде КПСС Хрущев прямо объявил, что уже через 20 лет "советские люди будут жить при коммунизме!". Был провозглашен "Моральный кодекс строителя коммунизма", в котором перечислялись все добродетели гражданина, почти что религиозные (как твердят нынешние коммунисты), но ‒ для служения богоборческой программе партии.
Советской пропагандой впереди грезилось увлекательное "светлое будущее" человечества ("коммунизм"), в котором наукой будут раскрыты все тайны бытия, достигнуто безсмертие и будет как бы "рай на земле". Образованные верующие люди знали, что это невозможно на земле, но для атеизированного населения это был своего рода наркотик, потому что человеку свойственно иметь какую-то веру, придающую смысл его жизни.
К тому же это было время так называемой "оттепели", когда Хрущев продолжил борьбу с "культом личности Сталина", его мумию вынесли из мавзолея и захоронили на Красной площади, при этом призывая вернуться к "ленинским нормам". В советской интеллигенции и особенно у молодежи стал исчезать страх перед прежними репрессиями и пробудился энтузиазм творчества в науке, литературе, общественной жизни. Разумеется, всё в допущенных рамках советской идеологии, но, как теперь известно, появились также и инакомыслящие, которые стали толковать ленинские нормы как выполнение всех обещаний партии о социальной справедливости и о восстановлении исторической правды, вне рамок марксистской идеологии.
Этот процесс самоочищения жизни от марксизма мог бы продолжаться, если бы Хрущев этого действительно хотел. Но он всего лишь сделал Сталина и своих личных соперников-сталинцев в Политбюро козлами отпущения за предыдущие преступления партии. А восстановление "ленинских норм" означало и возобновление борьбы с религией, преследование которой почти утихло в связи с войной. Началась новая кампания закрытия храмов, судов над верующими с самодурством местных властей. (Про случай с другом нашей семьи Половинкиным в Бешпагире я уже упомянул.)
К тому же многие обещания Хрущева по поднятию уровня жизни выше американского были нереальны и его противоречивые реформы, административные и сельскохозяйственные, вызывали широкое недовольство. Росли цены на продовольствие, но зарплаты не повышались, а повышались нормы выработки. Нехватка товаров, повышение цен, жилищный кризис, произвол местных властей (лишившихся былого страха перед наказанием в сталинские времена) – все это стало причиной забастовок и волнений в десятках городов, в том числе в Ставрополе в 1964 году, а демонстрацию рабочих в Новочеркасске в 1961 году расстреляли. (В биографических воспоминаниях я не пишу подробно о советском режиме, об этом нужно читать мои книги, но в нескольких штрихах кое-что необходимо и тут напомнить об общественных условиях моего взросления.)
Конечно, в том отроческом возрасте эти процессы не воспринимались мною сознательно и тем более политически. Но общая атмосфера "оттепели" всё же не могла не влиять, в том числе через поведение родителей ‒ принципиально честных тружеников, вполне живших по "Моральному кодексу" и трудившихся с энтузиазмом. Десталинизация касалась и лично их отчимов. Так что и для меня это подростковое время было не только физическим ростом тела, но и ростом самосознания в голове на основе ширящегося познания мiра и себя в нем как песчинки неведомого предназначения в этом мiре.
В эти годы я начал вести дневник ‒ примерно в 5-6 классе записывал карандашом в общую тетрадь происходившие в своем окружении события. Вел его года два, потом уничтожил, найдя его глупым. Наверное, так оно и было, хотя хотелось бы взглянуть на хронику своей тогдашней жизни и волновавшие меня вопросы. Помнится, у нас были игры по ориентации в лесу у Комсомольского пруда, ребята из параллельного класса нашли там небольшие металлические штучки и бросили их в костер, где они взорвались. Это были мины, оставшиеся с военного времени, к счастью никто не погиб, были только мелкие осколочные ранения, которые ребята с гордостью демонстрировали, помазанные зеленкой. Лес тогда оцепили военные и тщательно его прочесали.
По соседству с нашим жильем на пилораме были улицы с частными домами, где жило несколько одноклассников (в том числе упомянутый Сашка). Одна улица примыкала к оврагу, в котором брала начало речка Мутнянка ‒ это был небольшой ручеек, который можно было легко перейти. Мы порою "исследовали" сады с другой стороны оврага, воровали яблоки, и однажды нас, воришек, там сильно напугал кто-то из хозяев. Мы бросились в оврагу, я не заметил довольно высокий обрыв в том месте и полетел с него вниз вниз, перевернувшись в воздухе, но удачно приземлился, а мог бы и шею себе сломать. Трагедия на нашей Мутнянке, впрочем, тоже была: по пути в школу мы переходили через овраг ко каменному мосту и нередко, бравируя, шли, балансируя по узким его перилам: один мальчик сорвался и разбился насмерть...
Из всех предметов по-прежнему самым любимым была география. Ее преподавала Евдокия Павловна, и она поручила нам с Сашкой сделать настенную газету "Юный географ". Я стал красивыми разноцветными буквами, с переливами, рисовать заголовок, но переоценил свои силы, вернее скорость изготовления такой "красоты" (одна буква у меня занимала час кропотливой работы). Поскольку Сашка взялся быть главным исполнителем, работать я приходил к нему домой, но сам он ничего не делал, поэтому работа затянулась, и учительница, махнув на нас рукой, поручила ее другому ученику. Это был мой первый опыт изготовления стенгазеты. (Потом я этим занимался и в техникуме, и на полярной станции, и в институте, и в "Посеве", где тоже однажды сделал юмористическую стенгазету.)
Из любви к географии я записался в секцию краеведения в Доме пионеров, которую вел Герман Беликов. Мы готовились к походу на гору Стрижамент (831 м) с развалинами крепости (основанной в 1794 г.) неподалеку от Ставрополя, но я заболел и не смог в этом участвовать, и потом вообще перестал посещать секцию. (Беликов стал впоследствии главным ставропольским краеведом, и я с ним встретился снова, когда в 1992 г. смог впервые после эмиграции приехать в Ставрополь, Герман Алексеевич отнесся ко мне заинтересованно как соученику по школе № 3, а также в плане поиска эмигрантских публикаций о Ставрополе; кое-что я ему послал из Германии, но он мне не писал, и наши контакты как-то заглохли.)
Однажды в пятом или шестом-седьмом классе я участвовал в школьных соревнованиях по шахматам, в которых занял не помню точно какое место, но вверху, так что организатор соревнований сказал, что я заслуживаю третьего разряда, и пригласил меня в шахматную секцию. Но играл я опять-таки чисто интуитивно, и лишь временами с родителями, без специального обучения. Тогда настоящим спортом у нас, мальчишек, эта игра не считалась.
Разумеется, мы любили играть в футбол, в том числе класс на класс после уроков в парке, где была спортивная площадка. И еще мы были заядлыми болельщиками за ставропольскую команду "Спартак", игравшую в классе "Б" (в зоне Северного Кавказа). Мы пробирались на стадион безбилетниками через прилегающие дворы, перелезая через заборы. Когда команда играла на выезде, я приходил на стадион к домику администрации, где собиралось около 20 болельшиков в ожидании телефонного сообщения о результате. Там же была доска с перемещаемыми фигурками футболистов, изображавшими турнирное положение команд, перед нею обычно собиралось около десятка человек для обсуждения футбольных событий. То есть у меня было чувство местного футбольного патриотизма, заставлявшее меня строить прогнозы на все предстоящие матчи команды, с каким счетом она способна сыграть. Конечно, в этих "предсказаниях" желаемое часто опережало действительное и, к моему сожалению, не могло на него повлиять. Но это было первое в жизни искреннее чувство патриотизма, в котором нет никакой иной заинтересованности, кроме своего ощущения принадлежности к большому народному коллективу, в данном случае ‒ городскому.
Однажды пошли втроем записываться в секцию бокса в Детскую спортивную школу на улице Советской. Принявшая нас женщина сказала, что бокс уже заполнен, но обычно там бывает отсев, и предложила нам временно записаться на гимнастику для физической подготовки, а потом сможем перейти и на бокс.
Мне уже было около 12 лет, несколько поздновато для этого вида спорта, ибо тело уже было менее гибким. Но гимнастика пошла мне на пользу в физическом развитии и в ощущении своего тела. (Впрочем уже в этом возрасте я познакомился и с "экзистенциальным" ощущением того, что мое тело смертно ‒ это когда у меня вырвали первый зуб; я уже писал, что это было наследие бешпагирской воды, лишенной фтора.)
Все снаряды я осваивал успешно, кроме вольных упражнений ‒ из-за акробатики. И это несмотря на то, что у меня была хорошая прыгучесть (даже в прыжках в высоту "ножницами" на школьных уроках физкультуры). Первый наш тренер Иван Васильевич Мухай не заметил, что у меня толчковая нога была не левая, как у всех, а правая, тем не менее я копировал разбег других ребят и толкался левой. Поэтому из-за плохого толчка я никак не мог освоить переворот вперед и другие комбинации. Это стало главной причиной того, что гимнастом мне стать не было суждено ‒ благодаря Ивану Васильевичу. Кроме того, у меня был слабоват вестибулярный аппарат: в детстве меня укачивало в автомобиле, и поэтому акробатические кувырки и перевороты не нравились, всем этим Господь уберег меня от спортивной карьеры...
Тем не менее в восьмом классе я стал чемпионом Ставрополя по первому юношескому разряду, компенсируя провалы в вольных хорошими оценками на других снарядах, и стал работать по второму взрослому. На этой иерархической ступени, помимо обязательной программы, уже появлялись произвольные для всех шести снарядов, я с увлечением составлял их и виртуально "исполнял" в своем воображении.
Жизнь нашей семьи из пяти человек на пилораме, в одной комнате без удобств, а также невозможность получить жилье от государства (ждать нужно было годы в очереди), побудили родителей начать постройку собственного дома, которая длилась около десяти лет.
Выделенный для постройки участок на улице Авиационной, дом 57-е наполовину представлял собой стихийную свалку мусора, устроенную окрестными жителями в начале оврага, и нам потом годами приходилось выбирать из земли осколки стекла, железки и другие отходы. Однако место было очень хорошее: на окраине города рядом с лесом, наш участок был последним на улице, примыкая к заросшему коноплей оврагу, в котором в углу нашего участка начинался родниковый ручей (позже он ушел под землю). И в тоже время это было всего лишь в двух остановках троллейбуса от центральной площади: город наполовину был окружен подковой этого лесного массива с Комсомольским прудом. (Сейчас уже новые жилые кварталы окружают лес со всех сторон, взяв его в плен.)
///фото дома со слайда//
Поэтому улица Авиационная считалась престижной, на ней жили городские начальники, включая сосланного в Ставрополь Булганина. (При Сталине он был членом Политбюро, затем председателем Совета министров СССР в 1955-1958 годы. Затем Хрущев, опасаясь Булганина как соперника, сослал его на должность председателя Ставропольского совнархоза, и первое время у этого здания на улице Карла Маркса собирались толпы народа поглазеть на опального главу правительства.)
Для строительства дома родители принципиально приобретали только легальные материалы, подтвержденные документами и квитанциями об оплате (отвергая более дешевые левые предложения), наняли только каменщиков для возведения стен и плотников для крыши, всё остальное достраивали собственными руками. Мне полагалось работать ежедневно сначала два часа (сколачивать щиты из дранки, олифить, красить, выкладывать камнем отмостку). Затем моя норма была увеличена до четырех часов, уже в виде помощи отцу по укладке пола и другим плотницким работам (сноровка в которых мне потом пригодилась и в Арктике, и в стройотрядах). Больше всего мне нравилось вымащивать двор и дорожки камнем. Сделанное мною там до сих пор сохранилось. Я также любил работать в саду.
Я любил читать, вернее сам процесс чтения, поскольку часто читал уже прочитанное, например, почему-то невзрачную книжку Мусатова "Стожары". Содержания ее я уже не помню, кроме того, что действие происходило в нашем Ставропольском крае. Любил читать ночью под одеялом с фонариком или на чердаке с самодельной коптилкой. Из родительского шкафа пробовал читать сочинения Т. Драйзера (показался очень скучным) и Э. Золя (интереснее, но это было не по возрасту) ‒ эти собрания сочинений родители выписали, поскольку подписка на них в Бешпагире была доступна, но вряд ли у них было время для их чтения. В городской библиотеке я записывался в очередь на М. Рида, Ф. Купера, Ж. Верна и т.п. Несколько раз перечитывал любимые "Приключения Тома Сойера и Гекльбери Финна", "Серебряные коньки". Всё это была нравственно правильная литература, но иностранная, ничего не дававшая национальному самосознанию. Жаль, что некому было посоветовать мне более нужные для развития книги из русской истории. В школе же русскую классическую литературу преподавали выборочно в препарированном виде как критику "царизма", "крепостничества" и т.п. (И разбавляли классикой "соцреализма" наподобие Горького и Гайдара.)
Отец не оставлял увлечение охотой. Мы как-то ездили на озеро Маныч в Калмыкии, где было много уток и гусей, но чаще ‒ на Вшивое озеро близ Ставрополя. Берегов у озера не было видно, так как оно было неглубоким и заросло камышом. Отец в высоких резиновых сапогах уходил в камыши, а я разводил костер, на котором вечером, уже в темноте, готовили чай и однажды зажарили утку, обмазав ее глиной, которую потом в обожженном виде было легко отделять от мяса вместе с перьями. Была в этом какая-то древняя первобытность охоты. Однажды я подхватил на берегу охапку сухого камыша для костра, из которой выпала крупная серая лента с зигзагообразным узором ‒ это была крупная гадюка, которая не стала меня наказывать за вмешательство в ее владения...
Мы переехали с пилорамы в собственный дом примерно в 1961 году, когда в нем была отстроена пока еще единственная пригодная для жилья комната с кухней и угольной печкой (туалет по-прежнему во дворе). Зимой на подоконнике образовывался лед, замерзала чернильница на столе. Не знаю уж, как эту зиму выдержали рыбки в аквариуме (его сделал мне отец), но водоросль валлиснерия вследствие такой зимовки неожиданно выпустила цветок наподобие маленькой белой кувшинки.
Я не захотел менять школу и ходил в прежнюю № 3 через весь город. Мама меня старалась утром подвозить в школу на машине, по пути на свою работу, но я стеснялся того, что у нас машина (у других учеников класса ее не было), и просил высаживать меня на соседней улице. Когда уроки были во вторую смену ‒ выходил из дома задолго до начала занятий и в пути слонялся по окрестностям, особенно задерживался на стадионе у турнирной таблицы с положением команд и в парке, изучив все его старинные уголки. Парк в Ставрополе был небольшим, но красивым, и даже получал какие-то всесоюзные премии.
Довольно большой Комсомольский пруд, находившийся в лесу в полукилометре от дома, образовался из речки Ташла, перегороженной дамбой. Летом там был городской пляж, где мальчишки с нашей улицы были завсегдатаями, была лодочная станция и вышки для прыжков в воду. (К северо-западу поодаль был комплекс зданий санатория или больницы, куда меня из Бешпагира после первого класса определили в летний пионерский лагерь, о чем я уже упоминал.)
Более привлекательное место пляжного отдыха и рыбалки было в 18 км от города ‒ большое озеро Сенгилеевское, ранее соленое с уникальным живым мiром. В 1950-е годы его опреснили подведенным каналом из Егорлыка. Наш тренер И.В. Мухай как-то организовал туда пеший поход с ночевкой, добираться было утомительно, преодолевая лесные овраги. Но вскоре озеро закрыли для посещения как охранную зону городского водоснабжения. А жаль...
Отец приучил меня по утрам делать гимнастику и пробежки "для здоровья". Обычно я пробегал в лесу пару километров: вокруг пруда, иногда бегал до Холодного ручья, где начинался высокий лес, тогда как близ города он был во время войны вырублен на дрова и новые деревья выросли от пней. Вообще мы, мальчишки с Авиационной, любили проводить время в лесу, устраивали запруды в ручьях, разжигали костры, устраивали ночную рыбалку в пруду, пару раз ночевали в палатках, коллекционировали птичьи яйца, зимой сооружали лыжный трамплин. Мама как бывшая лыжница приучила и меня подолгу бегать на лыжах в лесу и на прилегающих к нему огородах. (Этот лес в моей памяти остался благодатным воспоминанием островка зеленой жизни природы, но когда я позже посетил его в 1990-е годы, он уже выглядел умирающим, заваленным гниющими трупами упавших деревьев, а в ручьях была грязная пена от канализационных сливов с улицы Дзержинского...)
На этой улице ближе к центру располагалась моя новая школа № 5, куда я перешел к восьмому классу по мере знакомства со сверстниками на нашей улице. Школа помещалась в здании бывшей духовной семинарии, закрытой в 1960 году во время хрущевских гонений на Церковь. Однако прилегавший вплотную к семинарии Андреевский собор не тронули, а лишь отделили его от школьного двора высоким забором. К храму, тогда уже единственному действуюшему в городе, собиралось много верующих, иногда появлялись странники с цепями на голом теле, стоявшие босиком даже на снегу. Со стыдом вспоминаю, что однажды забросил через этот забор подожженную дустовую шашку ‒ просто из озорства; неприязни к верующим у меня не было. Хотя в школе нас, наверное, настраивали против Церкви, но я этого не помню... В эту церковь по праздникам ходила Тетя Устя.
В новой школе меня по показателям успеваемости сначала определили в наиболее успешный класс 8 "а", где учился мой новый друг Генка Ушаков с нашей улицы. Но по непонятной мне причине классная руководительница Ираида (не помню отчества) невзлюбила меня, заявив мне, что я буду чужеродным телом в классе. Меня перевели в меньший по числу учеников класс для проблемных детей и великовозрастных второгодников ‒ 8 "г". Не помню, чтобы в этом классе были девочки. Некоторые ученики были из неблагополучных семей. (Их родители или братья были причастны к уголовному мiру, и мои одноклассники владели соответствующим жаргоном, познакомив и меня с ним на практике, когда меня едва не отлупили за слово "козел", которым я кого-то назвал, не зная его лагерного значения: сотрудничающий с начальством, "стукач"). Это проявлялось и в их развлечении ‒ безпричинно избить кого-нибудь совершенно незнакомого на улице (в этом отличался занимавшийся боксом Толик Офицеров по кличке "Офицер", семья его жила в многосемейном бараке).
Вскоре нас, все восьмые классы одновременно, приняли в комсомол. Просто объявили, что пришла пора это сделать по достижении возраста в 14 лет, и всех одним большим стадом повели в горком комсомола на ул. Советской (напротив спортшколы), там соответствующий чиновник нас поздравил, что-то сказал назидательное ‒ это заняло около 15 минут. И мы тем же путем пешком вернулись в школу (бывшую семинарию). Никаких изменений в школьной жизни это событие не произвело, я даже не помню, кто у нас в классе стал комсоргом.
Тем не менее благодаря Генке Ушакову я был не чужим и в его "элитном" 8-м "а". Он отличался от прежней моей школьной жизни налаженными традициями вечеринок в праздники на квартирах: Новый год, 1 мая, 7 ноября... В складчину покупали еду и вино (бутылка стоила рубль с копейками). Мальчики ухаживали за девочками, танцевали, а некоторые и дружили ‒"ходили" с девочкой (так это называлось). "Опытный" Генка авторитетно сказал, что и мне нужно с кем-то "ходить", и посоветовал "свободную" Милку Ч. Я согласился, хотя мне нравилась Лариса У., дочь учительницы, но она была ростом выше меня и это было непреодолимым препятствием. Я стал оказывать Милке знаки внимания, и это ей так понравилось, что она стала мне надоедать (и ее бабушка это одобряла, приглашала в гости). Я ее несколько раз провожал домой, но в нее был влюблен другой мальчик Б., грустно завидовавший мне. Мне его было жалко, и я чувствовал свою вину.
В конце концов, мне это показалось странным, ненужным, и я стал избегать Милку. До поцелуев у нас не дошло. Таким образом Милка стала одной из причин моего желания после восьмого класса уехать из Ставрополя в Невинномысск. Чтобы уклониться от "хождения" с Милкой, не обижая ее, я уехал с Генкой поступать в Невинномысский химико-механический техникум.
Со стороны это могло показаться естественным, поскольку в жизни нашей семьи техника имела важное значение. Мои родители, как я уже написал, были высококвалифицированными инженерами, всю жизнь хорошо владевшими техническими знаниями. (Помню, после сдачи мною вступительного экзамена в политехнический институт летом 1967 года, отец захотел проверить правильность моего решения достаточно сложного математического задания и быстро пришел к такому же результату, хотя экзаменаторы почему-то дали мне за него всего лишь четверку.)
После "Ставропольца" отец работал на заводе металлоизделий, и, наконец, надолго на заводе "Красный металлист" главным механиком литейного цеха (там я в 1966-67 гг. проходил полугодовую практику от техникума). Мама работала там же и уже в зрелом возрасте заочно закончила Патентный институт, получив второй диплом. Она работала старшим инженером-конструктором по проектированию нестандартного оборудования, затем начальником БТИ (бюро технической информации), была автором многих рационализаторских предложений, получала почетные грамоты и денежные вознаграждения, ее фотография была помещена на заводской доске почета. В 1963‒1965 гг. проникнувшись антисталинским духом "оттепели", согласилась стать освобожденным секретарем заводского парткома, но дольше на этой должности не выдержала, поскольку это охладило ее опытом знакомства с партийной ложью вышестоящих функционеров. (В те годы одним из главных партийцев в Ставрополе был Горбачев, ставший в 1966 году первым секретарем горкома.) В 1971 году мать перевели на работу начальником отдела в новосозданный оборонный Научно-исследовательский Институт радиокомпонентов, затем там стал работать и отец, тоже начальником отдела.

Некоторые из трудовых медалей родителей.
Наш дом был завален научно-популярными журналами: "Знание ‒ сила", "Наука и жизнь", "Техника молодежи" и другие, которые я тоже с интересом читал. Мне были интересны научные открытия о строении мiра, природы и особенно космоса.
Однако в техникум я поступил не из любви к технике, а по описанной причине: в 14-летнем возрасте мне захотелось уехать из родительского дома в другой город, в "самостоятельную жизнь". Отец пытался меня отговаривать: это несерьезно, лучше закончить школу и поступить в институт, но я был упрямым.
Правда, Невинномысск был всего лишь в 40 км, многие учащиеся были из Ставрополя и на выходные мы постоянно ездили домой, особенно в первое время. Я часто возвращался на занятия по понедельникам рано утром, обычно на попутных машинах. И при спуске со ставропольской горы незабываемой была на горизонте панорама Кавказского хребта с серебряным Эльбрусом и сияющей утренней звездой над ним... А под склоном ‒ серебряные ковыльные ковры...
Завершая воспоминания о школьных юношеских годах, ничего особенного в это время не припомню: родители зарабатывали по тем временам хорошо (120 рублей в месяц ‒ максимальный оклад инженера), наша семья ни в чем не нуждалась, у нас была машина. С уличными мальчишками мы играли в чижа, в городки, в пуговки, бабки, в штандер, в казаки-разбойники (правда, редко, так как для этого нужно было собирать много участников - две команды). Это была тогда совсем другая детская "цивилизация", основанная на владении реальными навыками и вещами, в сравнении с нынешней виртуально-компьютерной...
Быть может, если бы я рос в русской православной среде, получая соответствующее воспитание, образование, важнейшие знания для понимания смысла жизни, что в СССР было запретно, ‒ из меня мог бы получиться другой человек, более угодный Богу и полезный России. Но мне было суждено появиться на свет и взрослеть в том мiре и в том месте, куда меня Бог поставил, надеюсь, что Он с учетом этого будет и милосердно судить о моих делах и о том, насколько я выполнил Его замысел обо мне.
Примечательно, что мои школьные годы проходили в бывших церковных зданиях. В Бешпагире в комплексе зданий бывшего Крестовоздвиженского храма (при большевиках на ул. Красная). В Ставрополе ‒ в бывшем помещении Духовной семинарии при Андреевском соборе (до сих пор это ул. Дзержинского!). И дом родители построили неподалеку на ул. Авиационной, за которой начинался Архиерейский лес. Эти следы православного прошлого, как и название Города Креста, напомнили о себе лишь гораздо позже, но сейчас я их воспринимаю как не случайные знаки из моего детства, предназначенные мне для будущего прозрения.
2018-2021
Отрочество ‒ это считающийся трудным переходный возраст от детства к юности, он у меня был с четвертого класса по восьмой, и эти годы в Ставрополе сделали его моим любимым городом, о смысле греческого названия которого я тогда не имел представления.
Город был основан в 1777 году как крепость на Азово-Моздокской оборонительной линии на возвышенности, с которой в ясную погоду, за двести километров, виден кавказский хребет и господствующий над ним Эльбрус. Там, в горах, уже живет и другой народ, нерусский, приезжающий оттуда в Ставрополь и отчасти живущий в нем со своими песнями и танцами, и эта новизна была интересна. А в самом городе были остатки суворовской крепости и старинные дореволюционные улицы в центре, с коваными ажурными козырьками над входами в дома. Крепость была построена в верхней части города, вниз местами довольно круто спускался широкий бульвар Карла Маркса (ранее Николаевский проспект) с фонтанами, а с самой вершины горки, которую когда-то увенчивал Собор Казанской Божией Матери (вместо него там установили памятник какому-то революционеру) ‒ вниз спускалась широкая каскадная лестница ‒ Комсомольская горка с "вечным огнем". Все старые здания были сложены из местного ракушечника, из него же были сделаны ворота с башенками, афишные тумбы, заборы и сточные канавы. Ракушечник ‒ это окаменевшие осаждения древних морских организмов, простиравшие мое археологическое воображение в далекое прошлое. Ставрополь тогда славился и огромным скелетом ископаемого слона, выставленного в краеведческом музее (где мне более всего запомнилась коллекция бабочек). (С 1935 по 1943 годы Ставрополь назывался Ворошиловском ‒ по имени видного большевика-соратника Сталина.)
В Ставрополе отец поначалу нашел работу в молочно-овощном колхозе "Ставрополец" (он располагался в городе), и нашу семью из пятерых человек (пятым был родившийся в Бешпагире в 1955 году Сергей; с нами осталась также Тетя Устя, а Бабуся уже в Москве нянчила внучку Женю) разместили в одной маленькой комнатке в служебном домике на пилораме по адресу: ул. Осипенко, 8. Туалет был во дворе, общий для нескольких семей в соседних строениях, отопление было печное углем. Не помню, где мы брали воду (видимо, носили из уличной колонки) для настенного рукомойника с висячим запорным стержнем, при поднятии которого лилась вода. Раз в неделю мы ходили мыться в городскую баню на ул. Ленина, там всегда была большая очередь. В смежной комнате жила молодая незамужняя женщина, которая, понимая нашу тесноту, пускала меня спать в свою комнату на раскладушке.
Сторожем этой территории был смиренный старичок-армянин Кероп Акопович, с которым подружилась Тетя Устя, и они вечерами подолгу беседовали о жизни. Во дворе пилорамы был большой амбар для хранения зерна, и мы с мальчишками (одноклассниками, приходившими ко мне в гости) любили забираться на стропила под крышу амбара и прыгать оттуда в мягкое зерно. Однажды этим развлечением я занимался в одиночестве и, спрыгнув, едва не утонул ‒ не знаю, как всё же удалось с помощью рук "вплавь" выбраться из затягивающей зерновой "трясины". Испытал страх смерти.
Отец и в Ставрополе не оставил своей мечты сделать меня пианиста. Он повел меня на дом к специалисту из музыкальной школы для проверки слуха. Заданные мне ноты я легко различал после прослушивания набора многочисленных других, отвлекающих. То есть хороший слух имелся, и отец заставил меня ходить на уроки к молодой учительнице-студентке, которая раздражалась моим равнодушием и исчеркала мне весь учебник в местах, где я делал ошибки. Быть может, если бы у нас дома был инструмент, я бы еще мог проявить больше интереса к игре, если бы мне еще и объяснили законы гармонии, но эти законы увлекли меня лишь позже, в техникуме. А вообще-то в музыке есть и "философия", в которую я, к сожалению, не вникал.
Правда, я недолго занимался в школьном струнном оркестре игрой на домре пикколо, научился исполнять тремоло, но не помню уже, как туда записался, видимо, за компанию с друзьями.
Учитель пения Серов заставил нас всех участвовать в большом школьном хоре, а четверых мальчишек отобрал для отдельного веселого песенного номера: «Между нами решено, решено: проживем лет двести мы...» (из кинофильма "Неподдающиеся") ‒ пели мы задорными голосами, хитро переглядываясь друг с другом, и пользовались большим успехом на городских смотрах самодеятельности, где наша школа занимала первые места. Но однажды с хором случился конфуз: при выходе хоровых рядов шеренгами на сценические подмостки в Зеленом театре нас запустили с другой стороны сцены, и хор разместился как бы в зеркальном отражении. Серов решил не перестраивать нас, но слаженного пения не получилось из-за психологической непривычности такого построения. Получился небольшой урок важности бытового "консерватизма".
Годы с четвертого по седьмой классы в школе № 3 ничем особенным не запомнились. Я по-прежнему легко и отлично учился (в русском языке я правила не заучивал, у меня образовалась так называемая "врожденная грамотность"), и поэтому меня опять сделали председателем пионерского отряда нашего класса. Из своих обязанностей (она же была и единственной) запомнилась общая школьная линейка в зале на втором этаже, когда председатель каждого класса должен был подходить "строевым" шагом к председателю школьной дружины и рапортовать о построении. Помню, что эта повинность, хотя и не частая, мне давалась с напряжением: как бы не ошибиться на глазах у всей школы...
Коммунистическую идеологию нам прививали в основном предметами "история" и "литература" ‒ то была трактовка русской классики (Пушкина, Лермонтова) в духе классовой борьбы и их противостояния "царизму", затем выбором соответствующих авторов, в основном советских "инженеров душ". Царская Россия рисовалась как царство мракобесия, отсталости, голода, нищеты, ‒ такой она у меня ассоциировалась с картиной безпросветной жизни на первых страницах книги "Мальчик из Уржума" (о детстве большевика Кирова): дома без электрического света с жестяными коптилками, грязь и пыль, злые псы в богатых домах, тюрьма для несчастных оборванных арестантов и у полосатой будки усатый часовой с ружьем. Из игрушек у Сережи был только тряпичный мячик, ела семья только постные щи и картошку. Болезнь, смерть и похороны матери, детский приют... С выводом: спасибо Великой октябрьской революции, что избавила народ от нищеты и безправия...
Детскими "иконами" в школе были Павлик Морозов, предавший раскулачиваемых родителей, и Павка Корчагин, боровшийся за коммунистическое счастье трудящихся и совершивший большое количество геройских поступков ‒ их именами называли пионерские отряды и улицы в городе. И, разумеется, важное место в идеологическом воспитании занимали книги Аркадия Гайдара (лишь во взрослом возрасте я узнал, что он был чекистом-садистом и психопатом). На основе его книги "Тимур и его команда" было организовано "тимуровское движение": анонимно творить добро пожилым людям, помню, весной нас послали помочь старушке собрать граблями листву в палисаднике, но она нас прогнала, потому что при этом мы по небрежности ломали появившиеся ростки цветов.
В виде пионерских заданий мы собирали макулатуру, металлолом (однажды "нашли" на соседней стройке новенькие трубы, за что нам попало), однажды нас отправили на прополку морковки в психбольницу (пациенты работали вместе с нами, тихие и хмурые), выезжали и в поля на прополку кукурузы. Но пионерская работа заключалась не только в этом или в художественной самодеятельности. Временами случалось наглядное "идеологическое воспитание". Однажды в наш класс пригласили человека, который "видел Ленина". Он был еще не таким уж старым, но в сильном подпитии едва держался на ногах и только мычал что-то нечленораздельное. Учительница была этим смущена, но всё равно эффект был достигнут: было доказано, Ленин и в самом деле существовал, причем не так уж давно.
Мiровоззренческое воспитание закладывала марксистско-дарвинистская зоология, включавшая в себя самовозникновение жизни из мертвой материи путем ее усложнения и происхождение человека из обезьяны благодаря труду. Таким образом, человек был вершиной зоологической лестницы и подвержен законам материального мiра, развивая его далее к "светлому будущему" коммунизма, под руководством мудрой партии. В этом состоял смысл жизни.
Но основным идеологическим воспитанием был метод "окунания" детского поколения в окружающий океан жизни с ее информационным фоном, священными" праздниками 1 мая и 7 ноября, коммунистическими названиями улиц и памятниками, портретами вождей, повсеместными агитационными плакатами. Всё это нами воспринималось без раздумий как должное устройство мiра, наподобие погоды и времен года: вот идет дождь, потом снег... СССР самая счастливая страна в мiре, и это счастье мы принесем всему человечеству. Но, конечно, где-то за границей злые капиталисты-империалисты этому счастью всегда мешают...
В классе на стенах висели давно изготовленные учениками "монтажи" к советским праздникам 1 мая, 7 ноября и другим. Это были вырезки из журнальных картинок, наклеенных на метровый лист плотной бумаги. Однажды я без всякой "антисоветской" подоплеки изорвал два таких "монтажа", искренне решив, что они устарели ‒ висят давно, надоели, те праздники прошли, и надо сделать новые. Классная руководительница, Евдокия Павловна Куля, мудро не стала придавать этому политическое значение (во времена Сталина не поздоровилось бы ни ей, ни моим родителям), а поручила мне сделать новый "монтаж", что я и сделал с вырезками из журнала "Огонек", которого у нас дома скопились залежи за несколько лет.
Примерно в шестом-седьмом классах у меня возникло "хулиганское" развлечение ‒ коллекционировать в дневнике записи учителей о плохом поведении на уроках: весь дневник был испещрен этими записями почти на каждой странице, но родители в него никогда не заглядывали, поскольку учился я только на отлично. Правда в седьмом классе забросил алгебру ‒ она у меня вызывала неприязнь своими абстрактными формулами с буквенными обозначениями чисел ‒ я не понимал, зачем это мне нужно. По просьбе учительницы маме пришлось заниматься со мной дома для восстановления допущенного мною пробела ‒ она и во взрослом возрасте помнила все формулы (неужели они ей были нужны в конструкторской работе?). И еще по рисованию у меня вырисовалась итоговая четверка ‒ она, единственная, потом перешла из 7 класса в свидетельство об окончании 8 классов.
В нашем классе запомнился как редкий экземпляр, не похожий на других, Сашка О., в котором уже с тех лет было очевидно что-то нечестное и наглое, однажды он украл у меня редкие почтовые марки из коллекции и показывал их всем как свои, и даже когда я его в этом уличил, он согласился возвращать их мне лишь по частям. (Если не ошибаюсь, отец его работал мясником, и у них был большой дом.) На дне рождения Сашки в седьмом классе я впервые попробовал алкоголь и шел домой опьяневшим.
Помимо марок, я коллекционировал спичечные этикетки (мы часто ходили на вокзал к прибытию московского поезда и выменивали у приезжих их иногородние спичечные коробки на местные). Однако вскоре большие наборы этикеток стали продаваться в магазинах, и это девальвировало данное мое увлечение, поскольку оно стало общедоступным и безразмерным. Сейчас я понимаю природу этого распространенного занятия: коллекционирование каких-то предметов особого рода ‒ это стремление к личному, по возможности наиболее полному, владению какой-то областью человеческого мiра, пусть и очень малой, но обозримой и твоей индивидуальной. И оно превращается в страсть и в абсолютную ценность даже у взрослых людей, порою замещая собой более важные жизненные ценности.
Также я собирал монеты и старинные деньги. Наибольшее пополнение в мою денежную коллекцию поступало от одноклассника Володи Ситнянского, бабушка которого хранила бумажные ассигнации с дореволюционных времен ‒ с царскими портретами и двуглавыми орлами. Помню, у них был особенный "царский" запах, которого не было у советских денег. То было материальное доказательство и отблеск отошедшего в прошлое таинственного старого мiра, который школьная история рисовала страшным и опасным и который поэтому, спасая нас, хирургическим скальпелем отрезала Великая октябрьская социалистическая революция, но от которого остался такой реальный чудесный аромат и картинки на банкнотах. Мне кажется, воспоминания об этих деньгах и об их таинственном запахе тоже каким-то чувственным образом вошли в мое созревавшее позже антисоветское мiровоззрение.
Разумеется, и влюбленность в эти годы была: ее звали Ира Доскина (жила на ул. Мира, 251), но она о моем чувстве к ней не знала, и ей больше нравился высокий Володя Ситнянский... (На общем фото окончания четвертого класса ее нет, она появилась в нашей школе позже.) Опять-таки в построении на уроках физкультуры по росту я был предпоследним ‒ по этому признаку меня нетрудно найти на этой фотографии, в центре...

Ставрополь, школа № 3, 4-й класс. Классная руководительница Евдокия Павловна Куля.
В отдельной мастерской в школьном дворе у нас были уроки труда, в ходе которых мы на токарных станках вытачивали болты, нарезали на них резьбу, изготовляли дверные крючки и регуляторы воды для туалетных бачков, видимо, потом находившие где-то и практическое применение. Это давало первые практические навыки обращения с инструментами, деревом и металлом.
Со школьным трудом был связан и неприятный случай: несколько мальчиков, включая меня, взялись за плату во внеурочное время сколачивать деревянные ящики с проволочной обвязкой. Не помню уже, сколько нам платили, конечно, копейки. Почему-то мы решили украсть часть дощечек, с которыми работали, я тоже прихватил, хотя мне они были совершенно не нужны. У дыры в школьном заборе нас кто-то из взрослых поймал, мы не отпирались и все назвали себя, так что на следующий день нас вчетвером вызвали к директору школы. Мы стояли перед ним строем, было стыдно и страшно, что нам будет? ‒ а он сурово ходил перед нами взад-вперед, курил, и пускал в нас дым. От дыма мне стало плохо на весь день... Но наказывать нас он не стал, ограничился внушением.
Более всего эти уроки труда запомнились мне тем, как вдохновенно наш преподаватель воспринял полет Гагарина ‒ как открывшуюся новую эпоху комических полетов в жизни человечества. С этого времени у меня возник интерес к космическим полетам, к космосу (к фантастике типа "Туманности Андромеды" Ефремова"), к его непознанным тайнам и, в частности, стала занимать непостижимая тайна безконечности (которая потом оказалась и основой моего плюралистического "экзистенциализма"). Тема "покорения космоса" в те годы была в СССР наглядным дополнением к "религии коммунизма" ‒ светлого будущего человечества, которое мы сейчас строим.
В 1961 году на ХХII съезде КПСС Хрущев прямо объявил, что уже через 20 лет "советские люди будут жить при коммунизме!". Был провозглашен "Моральный кодекс строителя коммунизма", в котором перечислялись все добродетели гражданина, почти что религиозные (как твердят нынешние коммунисты), но ‒ для служения богоборческой программе партии.
Советской пропагандой впереди грезилось увлекательное "светлое будущее" человечества ("коммунизм"), в котором наукой будут раскрыты все тайны бытия, достигнуто безсмертие и будет как бы "рай на земле". Образованные верующие люди знали, что это невозможно на земле, но для атеизированного населения это был своего рода наркотик, потому что человеку свойственно иметь какую-то веру, придающую смысл его жизни.
К тому же это было время так называемой "оттепели", когда Хрущев продолжил борьбу с "культом личности Сталина", его мумию вынесли из мавзолея и захоронили на Красной площади, при этом призывая вернуться к "ленинским нормам". В советской интеллигенции и особенно у молодежи стал исчезать страх перед прежними репрессиями и пробудился энтузиазм творчества в науке, литературе, общественной жизни. Разумеется, всё в допущенных рамках советской идеологии, но, как теперь известно, появились также и инакомыслящие, которые стали толковать ленинские нормы как выполнение всех обещаний партии о социальной справедливости и о восстановлении исторической правды, вне рамок марксистской идеологии.
Этот процесс самоочищения жизни от марксизма мог бы продолжаться, если бы Хрущев этого действительно хотел. Но он всего лишь сделал Сталина и своих личных соперников-сталинцев в Политбюро козлами отпущения за предыдущие преступления партии. А восстановление "ленинских норм" означало и возобновление борьбы с религией, преследование которой почти утихло в связи с войной. Началась новая кампания закрытия храмов, судов над верующими с самодурством местных властей. (Про случай с другом нашей семьи Половинкиным в Бешпагире я уже упомянул.)
К тому же многие обещания Хрущева по поднятию уровня жизни выше американского были нереальны и его противоречивые реформы, административные и сельскохозяйственные, вызывали широкое недовольство. Росли цены на продовольствие, но зарплаты не повышались, а повышались нормы выработки. Нехватка товаров, повышение цен, жилищный кризис, произвол местных властей (лишившихся былого страха перед наказанием в сталинские времена) – все это стало причиной забастовок и волнений в десятках городов, в том числе в Ставрополе в 1964 году, а демонстрацию рабочих в Новочеркасске в 1961 году расстреляли. (В биографических воспоминаниях я не пишу подробно о советском режиме, об этом нужно читать мои книги, но в нескольких штрихах кое-что необходимо и тут напомнить об общественных условиях моего взросления.)
Конечно, в том отроческом возрасте эти процессы не воспринимались мною сознательно и тем более политически. Но общая атмосфера "оттепели" всё же не могла не влиять, в том числе через поведение родителей ‒ принципиально честных тружеников, вполне живших по "Моральному кодексу" и трудившихся с энтузиазмом. Десталинизация касалась и лично их отчимов. Так что и для меня это подростковое время было не только физическим ростом тела, но и ростом самосознания в голове на основе ширящегося познания мiра и себя в нем как песчинки неведомого предназначения в этом мiре.
В эти годы я начал вести дневник ‒ примерно в 5-6 классе записывал карандашом в общую тетрадь происходившие в своем окружении события. Вел его года два, потом уничтожил, найдя его глупым. Наверное, так оно и было, хотя хотелось бы взглянуть на хронику своей тогдашней жизни и волновавшие меня вопросы. Помнится, у нас были игры по ориентации в лесу у Комсомольского пруда, ребята из параллельного класса нашли там небольшие металлические штучки и бросили их в костер, где они взорвались. Это были мины, оставшиеся с военного времени, к счастью никто не погиб, были только мелкие осколочные ранения, которые ребята с гордостью демонстрировали, помазанные зеленкой. Лес тогда оцепили военные и тщательно его прочесали.
По соседству с нашим жильем на пилораме были улицы с частными домами, где жило несколько одноклассников (в том числе упомянутый Сашка). Одна улица примыкала к оврагу, в котором брала начало речка Мутнянка ‒ это был небольшой ручеек, который можно было легко перейти. Мы порою "исследовали" сады с другой стороны оврага, воровали яблоки, и однажды нас, воришек, там сильно напугал кто-то из хозяев. Мы бросились в оврагу, я не заметил довольно высокий обрыв в том месте и полетел с него вниз вниз, перевернувшись в воздухе, но удачно приземлился, а мог бы и шею себе сломать. Трагедия на нашей Мутнянке, впрочем, тоже была: по пути в школу мы переходили через овраг ко каменному мосту и нередко, бравируя, шли, балансируя по узким его перилам: один мальчик сорвался и разбился насмерть...
Из всех предметов по-прежнему самым любимым была география. Ее преподавала Евдокия Павловна, и она поручила нам с Сашкой сделать настенную газету "Юный географ". Я стал красивыми разноцветными буквами, с переливами, рисовать заголовок, но переоценил свои силы, вернее скорость изготовления такой "красоты" (одна буква у меня занимала час кропотливой работы). Поскольку Сашка взялся быть главным исполнителем, работать я приходил к нему домой, но сам он ничего не делал, поэтому работа затянулась, и учительница, махнув на нас рукой, поручила ее другому ученику. Это был мой первый опыт изготовления стенгазеты. (Потом я этим занимался и в техникуме, и на полярной станции, и в институте, и в "Посеве", где тоже однажды сделал юмористическую стенгазету.)
Из любви к географии я записался в секцию краеведения в Доме пионеров, которую вел Герман Беликов. Мы готовились к походу на гору Стрижамент (831 м) с развалинами крепости (основанной в 1794 г.) неподалеку от Ставрополя, но я заболел и не смог в этом участвовать, и потом вообще перестал посещать секцию. (Беликов стал впоследствии главным ставропольским краеведом, и я с ним встретился снова, когда в 1992 г. смог впервые после эмиграции приехать в Ставрополь, Герман Алексеевич отнесся ко мне заинтересованно как соученику по школе № 3, а также в плане поиска эмигрантских публикаций о Ставрополе; кое-что я ему послал из Германии, но он мне не писал, и наши контакты как-то заглохли.)
Однажды в пятом или шестом-седьмом классе я участвовал в школьных соревнованиях по шахматам, в которых занял не помню точно какое место, но вверху, так что организатор соревнований сказал, что я заслуживаю третьего разряда, и пригласил меня в шахматную секцию. Но играл я опять-таки чисто интуитивно, и лишь временами с родителями, без специального обучения. Тогда настоящим спортом у нас, мальчишек, эта игра не считалась.
Разумеется, мы любили играть в футбол, в том числе класс на класс после уроков в парке, где была спортивная площадка. И еще мы были заядлыми болельщиками за ставропольскую команду "Спартак", игравшую в классе "Б" (в зоне Северного Кавказа). Мы пробирались на стадион безбилетниками через прилегающие дворы, перелезая через заборы. Когда команда играла на выезде, я приходил на стадион к домику администрации, где собиралось около 20 болельшиков в ожидании телефонного сообщения о результате. Там же была доска с перемещаемыми фигурками футболистов, изображавшими турнирное положение команд, перед нею обычно собиралось около десятка человек для обсуждения футбольных событий. То есть у меня было чувство местного футбольного патриотизма, заставлявшее меня строить прогнозы на все предстоящие матчи команды, с каким счетом она способна сыграть. Конечно, в этих "предсказаниях" желаемое часто опережало действительное и, к моему сожалению, не могло на него повлиять. Но это было первое в жизни искреннее чувство патриотизма, в котором нет никакой иной заинтересованности, кроме своего ощущения принадлежности к большому народному коллективу, в данном случае ‒ городскому.
Однажды пошли втроем записываться в секцию бокса в Детскую спортивную школу на улице Советской. Принявшая нас женщина сказала, что бокс уже заполнен, но обычно там бывает отсев, и предложила нам временно записаться на гимнастику для физической подготовки, а потом сможем перейти и на бокс.
Мне уже было около 12 лет, несколько поздновато для этого вида спорта, ибо тело уже было менее гибким. Но гимнастика пошла мне на пользу в физическом развитии и в ощущении своего тела. (Впрочем уже в этом возрасте я познакомился и с "экзистенциальным" ощущением того, что мое тело смертно ‒ это когда у меня вырвали первый зуб; я уже писал, что это было наследие бешпагирской воды, лишенной фтора.)
Все снаряды я осваивал успешно, кроме вольных упражнений ‒ из-за акробатики. И это несмотря на то, что у меня была хорошая прыгучесть (даже в прыжках в высоту "ножницами" на школьных уроках физкультуры). Первый наш тренер Иван Васильевич Мухай не заметил, что у меня толчковая нога была не левая, как у всех, а правая, тем не менее я копировал разбег других ребят и толкался левой. Поэтому из-за плохого толчка я никак не мог освоить переворот вперед и другие комбинации. Это стало главной причиной того, что гимнастом мне стать не было суждено ‒ благодаря Ивану Васильевичу. Кроме того, у меня был слабоват вестибулярный аппарат: в детстве меня укачивало в автомобиле, и поэтому акробатические кувырки и перевороты не нравились, всем этим Господь уберег меня от спортивной карьеры...
Тем не менее в восьмом классе я стал чемпионом Ставрополя по первому юношескому разряду, компенсируя провалы в вольных хорошими оценками на других снарядах, и стал работать по второму взрослому. На этой иерархической ступени, помимо обязательной программы, уже появлялись произвольные для всех шести снарядов, я с увлечением составлял их и виртуально "исполнял" в своем воображении.
Жизнь нашей семьи из пяти человек на пилораме, в одной комнате без удобств, а также невозможность получить жилье от государства (ждать нужно было годы в очереди), побудили родителей начать постройку собственного дома, которая длилась около десяти лет.
Выделенный для постройки участок на улице Авиационной, дом 57-е наполовину представлял собой стихийную свалку мусора, устроенную окрестными жителями в начале оврага, и нам потом годами приходилось выбирать из земли осколки стекла, железки и другие отходы. Однако место было очень хорошее: на окраине города рядом с лесом, наш участок был последним на улице, примыкая к заросшему коноплей оврагу, в котором в углу нашего участка начинался родниковый ручей (позже он ушел под землю). И в тоже время это было всего лишь в двух остановках троллейбуса от центральной площади: город наполовину был окружен подковой этого лесного массива с Комсомольским прудом. (Сейчас уже новые жилые кварталы окружают лес со всех сторон, взяв его в плен.)
///фото дома со слайда//
Поэтому улица Авиационная считалась престижной, на ней жили городские начальники, включая сосланного в Ставрополь Булганина. (При Сталине он был членом Политбюро, затем председателем Совета министров СССР в 1955-1958 годы. Затем Хрущев, опасаясь Булганина как соперника, сослал его на должность председателя Ставропольского совнархоза, и первое время у этого здания на улице Карла Маркса собирались толпы народа поглазеть на опального главу правительства.)
Для строительства дома родители принципиально приобретали только легальные материалы, подтвержденные документами и квитанциями об оплате (отвергая более дешевые левые предложения), наняли только каменщиков для возведения стен и плотников для крыши, всё остальное достраивали собственными руками. Мне полагалось работать ежедневно сначала два часа (сколачивать щиты из дранки, олифить, красить, выкладывать камнем отмостку). Затем моя норма была увеличена до четырех часов, уже в виде помощи отцу по укладке пола и другим плотницким работам (сноровка в которых мне потом пригодилась и в Арктике, и в стройотрядах). Больше всего мне нравилось вымащивать двор и дорожки камнем. Сделанное мною там до сих пор сохранилось. Я также любил работать в саду.
Я любил читать, вернее сам процесс чтения, поскольку часто читал уже прочитанное, например, почему-то невзрачную книжку Мусатова "Стожары". Содержания ее я уже не помню, кроме того, что действие происходило в нашем Ставропольском крае. Любил читать ночью под одеялом с фонариком или на чердаке с самодельной коптилкой. Из родительского шкафа пробовал читать сочинения Т. Драйзера (показался очень скучным) и Э. Золя (интереснее, но это было не по возрасту) ‒ эти собрания сочинений родители выписали, поскольку подписка на них в Бешпагире была доступна, но вряд ли у них было время для их чтения. В городской библиотеке я записывался в очередь на М. Рида, Ф. Купера, Ж. Верна и т.п. Несколько раз перечитывал любимые "Приключения Тома Сойера и Гекльбери Финна", "Серебряные коньки". Всё это была нравственно правильная литература, но иностранная, ничего не дававшая национальному самосознанию. Жаль, что некому было посоветовать мне более нужные для развития книги из русской истории. В школе же русскую классическую литературу преподавали выборочно в препарированном виде как критику "царизма", "крепостничества" и т.п. (И разбавляли классикой "соцреализма" наподобие Горького и Гайдара.)
Отец не оставлял увлечение охотой. Мы как-то ездили на озеро Маныч в Калмыкии, где было много уток и гусей, но чаще ‒ на Вшивое озеро близ Ставрополя. Берегов у озера не было видно, так как оно было неглубоким и заросло камышом. Отец в высоких резиновых сапогах уходил в камыши, а я разводил костер, на котором вечером, уже в темноте, готовили чай и однажды зажарили утку, обмазав ее глиной, которую потом в обожженном виде было легко отделять от мяса вместе с перьями. Была в этом какая-то древняя первобытность охоты. Однажды я подхватил на берегу охапку сухого камыша для костра, из которой выпала крупная серая лента с зигзагообразным узором ‒ это была крупная гадюка, которая не стала меня наказывать за вмешательство в ее владения...
Мы переехали с пилорамы в собственный дом примерно в 1961 году, когда в нем была отстроена пока еще единственная пригодная для жилья комната с кухней и угольной печкой (туалет по-прежнему во дворе). Зимой на подоконнике образовывался лед, замерзала чернильница на столе. Не знаю уж, как эту зиму выдержали рыбки в аквариуме (его сделал мне отец), но водоросль валлиснерия вследствие такой зимовки неожиданно выпустила цветок наподобие маленькой белой кувшинки.
Я не захотел менять школу и ходил в прежнюю № 3 через весь город. Мама меня старалась утром подвозить в школу на машине, по пути на свою работу, но я стеснялся того, что у нас машина (у других учеников класса ее не было), и просил высаживать меня на соседней улице. Когда уроки были во вторую смену ‒ выходил из дома задолго до начала занятий и в пути слонялся по окрестностям, особенно задерживался на стадионе у турнирной таблицы с положением команд и в парке, изучив все его старинные уголки. Парк в Ставрополе был небольшим, но красивым, и даже получал какие-то всесоюзные премии.
Довольно большой Комсомольский пруд, находившийся в лесу в полукилометре от дома, образовался из речки Ташла, перегороженной дамбой. Летом там был городской пляж, где мальчишки с нашей улицы были завсегдатаями, была лодочная станция и вышки для прыжков в воду. (К северо-западу поодаль был комплекс зданий санатория или больницы, куда меня из Бешпагира после первого класса определили в летний пионерский лагерь, о чем я уже упоминал.)
Более привлекательное место пляжного отдыха и рыбалки было в 18 км от города ‒ большое озеро Сенгилеевское, ранее соленое с уникальным живым мiром. В 1950-е годы его опреснили подведенным каналом из Егорлыка. Наш тренер И.В. Мухай как-то организовал туда пеший поход с ночевкой, добираться было утомительно, преодолевая лесные овраги. Но вскоре озеро закрыли для посещения как охранную зону городского водоснабжения. А жаль...
Отец приучил меня по утрам делать гимнастику и пробежки "для здоровья". Обычно я пробегал в лесу пару километров: вокруг пруда, иногда бегал до Холодного ручья, где начинался высокий лес, тогда как близ города он был во время войны вырублен на дрова и новые деревья выросли от пней. Вообще мы, мальчишки с Авиационной, любили проводить время в лесу, устраивали запруды в ручьях, разжигали костры, устраивали ночную рыбалку в пруду, пару раз ночевали в палатках, коллекционировали птичьи яйца, зимой сооружали лыжный трамплин. Мама как бывшая лыжница приучила и меня подолгу бегать на лыжах в лесу и на прилегающих к нему огородах. (Этот лес в моей памяти остался благодатным воспоминанием островка зеленой жизни природы, но когда я позже посетил его в 1990-е годы, он уже выглядел умирающим, заваленным гниющими трупами упавших деревьев, а в ручьях была грязная пена от канализационных сливов с улицы Дзержинского...)
На этой улице ближе к центру располагалась моя новая школа № 5, куда я перешел к восьмому классу по мере знакомства со сверстниками на нашей улице. Школа помещалась в здании бывшей духовной семинарии, закрытой в 1960 году во время хрущевских гонений на Церковь. Однако прилегавший вплотную к семинарии Андреевский собор не тронули, а лишь отделили его от школьного двора высоким забором. К храму, тогда уже единственному действуюшему в городе, собиралось много верующих, иногда появлялись странники с цепями на голом теле, стоявшие босиком даже на снегу. Со стыдом вспоминаю, что однажды забросил через этот забор подожженную дустовую шашку ‒ просто из озорства; неприязни к верующим у меня не было. Хотя в школе нас, наверное, настраивали против Церкви, но я этого не помню... В эту церковь по праздникам ходила Тетя Устя.
В новой школе меня по показателям успеваемости сначала определили в наиболее успешный класс 8 "а", где учился мой новый друг Генка Ушаков с нашей улицы. Но по непонятной мне причине классная руководительница Ираида (не помню отчества) невзлюбила меня, заявив мне, что я буду чужеродным телом в классе. Меня перевели в меньший по числу учеников класс для проблемных детей и великовозрастных второгодников ‒ 8 "г". Не помню, чтобы в этом классе были девочки. Некоторые ученики были из неблагополучных семей. (Их родители или братья были причастны к уголовному мiру, и мои одноклассники владели соответствующим жаргоном, познакомив и меня с ним на практике, когда меня едва не отлупили за слово "козел", которым я кого-то назвал, не зная его лагерного значения: сотрудничающий с начальством, "стукач"). Это проявлялось и в их развлечении ‒ безпричинно избить кого-нибудь совершенно незнакомого на улице (в этом отличался занимавшийся боксом Толик Офицеров по кличке "Офицер", семья его жила в многосемейном бараке).
Вскоре нас, все восьмые классы одновременно, приняли в комсомол. Просто объявили, что пришла пора это сделать по достижении возраста в 14 лет, и всех одним большим стадом повели в горком комсомола на ул. Советской (напротив спортшколы), там соответствующий чиновник нас поздравил, что-то сказал назидательное ‒ это заняло около 15 минут. И мы тем же путем пешком вернулись в школу (бывшую семинарию). Никаких изменений в школьной жизни это событие не произвело, я даже не помню, кто у нас в классе стал комсоргом.
Тем не менее благодаря Генке Ушакову я был не чужим и в его "элитном" 8-м "а". Он отличался от прежней моей школьной жизни налаженными традициями вечеринок в праздники на квартирах: Новый год, 1 мая, 7 ноября... В складчину покупали еду и вино (бутылка стоила рубль с копейками). Мальчики ухаживали за девочками, танцевали, а некоторые и дружили ‒"ходили" с девочкой (так это называлось). "Опытный" Генка авторитетно сказал, что и мне нужно с кем-то "ходить", и посоветовал "свободную" Милку Ч. Я согласился, хотя мне нравилась Лариса У., дочь учительницы, но она была ростом выше меня и это было непреодолимым препятствием. Я стал оказывать Милке знаки внимания, и это ей так понравилось, что она стала мне надоедать (и ее бабушка это одобряла, приглашала в гости). Я ее несколько раз провожал домой, но в нее был влюблен другой мальчик Б., грустно завидовавший мне. Мне его было жалко, и я чувствовал свою вину.
В конце концов, мне это показалось странным, ненужным, и я стал избегать Милку. До поцелуев у нас не дошло. Таким образом Милка стала одной из причин моего желания после восьмого класса уехать из Ставрополя в Невинномысск. Чтобы уклониться от "хождения" с Милкой, не обижая ее, я уехал с Генкой поступать в Невинномысский химико-механический техникум.
Со стороны это могло показаться естественным, поскольку в жизни нашей семьи техника имела важное значение. Мои родители, как я уже написал, были высококвалифицированными инженерами, всю жизнь хорошо владевшими техническими знаниями. (Помню, после сдачи мною вступительного экзамена в политехнический институт летом 1967 года, отец захотел проверить правильность моего решения достаточно сложного математического задания и быстро пришел к такому же результату, хотя экзаменаторы почему-то дали мне за него всего лишь четверку.)
После "Ставропольца" отец работал на заводе металлоизделий, и, наконец, надолго на заводе "Красный металлист" главным механиком литейного цеха (там я в 1966-67 гг. проходил полугодовую практику от техникума). Мама работала там же и уже в зрелом возрасте заочно закончила Патентный институт, получив второй диплом. Она работала старшим инженером-конструктором по проектированию нестандартного оборудования, затем начальником БТИ (бюро технической информации), была автором многих рационализаторских предложений, получала почетные грамоты и денежные вознаграждения, ее фотография была помещена на заводской доске почета. В 1963‒1965 гг. проникнувшись антисталинским духом "оттепели", согласилась стать освобожденным секретарем заводского парткома, но дольше на этой должности не выдержала, поскольку это охладило ее опытом знакомства с партийной ложью вышестоящих функционеров. (В те годы одним из главных партийцев в Ставрополе был Горбачев, ставший в 1966 году первым секретарем горкома.) В 1971 году мать перевели на работу начальником отдела в новосозданный оборонный Научно-исследовательский Институт радиокомпонентов, затем там стал работать и отец, тоже начальником отдела.

Некоторые из трудовых медалей родителей.
Наш дом был завален научно-популярными журналами: "Знание ‒ сила", "Наука и жизнь", "Техника молодежи" и другие, которые я тоже с интересом читал. Мне были интересны научные открытия о строении мiра, природы и особенно космоса.
Однако в техникум я поступил не из любви к технике, а по описанной причине: в 14-летнем возрасте мне захотелось уехать из родительского дома в другой город, в "самостоятельную жизнь". Отец пытался меня отговаривать: это несерьезно, лучше закончить школу и поступить в институт, но я был упрямым.
Правда, Невинномысск был всего лишь в 40 км, многие учащиеся были из Ставрополя и на выходные мы постоянно ездили домой, особенно в первое время. Я часто возвращался на занятия по понедельникам рано утром, обычно на попутных машинах. И при спуске со ставропольской горы незабываемой была на горизонте панорама Кавказского хребта с серебряным Эльбрусом и сияющей утренней звездой над ним... А под склоном ‒ серебряные ковыльные ковры...
Завершая воспоминания о школьных юношеских годах, ничего особенного в это время не припомню: родители зарабатывали по тем временам хорошо (120 рублей в месяц ‒ максимальный оклад инженера), наша семья ни в чем не нуждалась, у нас была машина. С уличными мальчишками мы играли в чижа, в городки, в пуговки, бабки, в штандер, в казаки-разбойники (правда, редко, так как для этого нужно было собирать много участников - две команды). Это была тогда совсем другая детская "цивилизация", основанная на владении реальными навыками и вещами, в сравнении с нынешней виртуально-компьютерной...
Быть может, если бы я рос в русской православной среде, получая соответствующее воспитание, образование, важнейшие знания для понимания смысла жизни, что в СССР было запретно, ‒ из меня мог бы получиться другой человек, более угодный Богу и полезный России. Но мне было суждено появиться на свет и взрослеть в том мiре и в том месте, куда меня Бог поставил, надеюсь, что Он с учетом этого будет и милосердно судить о моих делах и о том, насколько я выполнил Его замысел обо мне.
Примечательно, что мои школьные годы проходили в бывших церковных зданиях. В Бешпагире в комплексе зданий бывшего Крестовоздвиженского храма (при большевиках на ул. Красная). В Ставрополе ‒ в бывшем помещении Духовной семинарии при Андреевском соборе (до сих пор это ул. Дзержинского!). И дом родители построили неподалеку на ул. Авиационной, за которой начинался Архиерейский лес. Эти следы православного прошлого, как и название Города Креста, напомнили о себе лишь гораздо позже, но сейчас я их воспринимаю как не случайные знаки из моего детства, предназначенные мне для будущего прозрения.
2018-2021
-

М.В. Назаров - Администраторы
- Сообщения: 7247
- Зарегистрирован: Вс окт 01, 2006 7:54 pm
- Откуда: Москва
Re: Ваша биография
4. ТЕХНИКУМОВСКАЯ ЮНОСТЬ И НАЧАЛО ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Невинномысск
Если вернуться к сравнению своей биографии с саженцем, хилым в Макеевке, окрепшем в Бешпагире и начавшим пускать первые боковые ветви в Ставрополе, то чтобы деревце не вытягивалось ввысь тонким главным стеблем, садоводы его срезают для образования кроны боковыми ветвями. Это я сделал себе сам ‒ пресек возможную благополучную вертикальную линию своей биографии: 10 классов, институт и затем работа с высшим образованием в обретенной профессии. Мне предстоял иной путь, выбираемый детьми из менее благополучных семей, в которых им приходится несколько раньше обрести трудовую профессию, одновременно с окончанием среднего образования, и не слишком "интеллектуальную".
Невинномысская казачья станица была основана в 1825 году в месте впадения в Кубань реки Большой Зеленчук, примерно в 40 км от Ставрополя. Еще в 1784 году там был основан оборонительный редут от турок и в последующие годы было много боев с налетавшими абреками-горцами. (Происхождение названия станицы краеведами не уточнено.) В революционные годы местное казачество было на стороне белых, на всем Северном Кавказе шли ожесточенные бои. Станица Невинномысская пережила красный террор и "расказачивание", голод 1921 года, раскулачивание и сплошную коллективизацию с еще более страшным голодом, безбожную пятилетку и обычный для всего СССР террор. После войны началось промышленное строительство и в 1960-е годы население города насчитывало уже около 60 тысяч жителей.
Невинномысский химико-механический техникум в крае был известным в связи с тем, что химия была тогда провозглашена партией главной отраслью для построения коммунизма (в 1958 году Хрущев усовершенствовал известную ленинскую формулу, придав ей такой вид: «Коммунизм ‒ это есть Советская власть плюс электрификация всей страны и химизация народного хозяйства»).
Вступительные экзамены в техникум мы с Генкой Ушаковым сдали успешно, при этом негласным условием поступления для менее успешных была работа на строительстве спортзала, прилегающего к основному зданию. Кажется, это был крупнейший тогда спортзал в крае, по крайней мере, для техникумов. Охотно набирали спортсменов, и мои спортивные грамоты также были приняты во внимание, поэтому меня 14-летнего зачислили, хотя до положенных 15 лет к началу учебы не хватало 18 дней.
Став химической столицей Северного Кавказа, Невинномысск превратился в очень криминальный город, так как в нем на строительстве химкомбината работали тысячи т.н. "химиков" ‒ условно освобожденных уголовников. Была небольшая, но сплоченная азербайджанская группировка. Часто случались убийства, не говоря уже о групповых драках, нередко тоже со смертельными исходами, в которых иногда участвовали и старшие студенты техникума. В таких случаях директор техникума Федор Иванович Затуливетров объявлял ЧП и собирал все группы в актовом зале для общественного суда над провинившимися ‒ в назидание всем остальным. Такая городская атмосфера, вероятно, дала нам некоторую закалку к внешнему неблагополучию.
Техникум находился неподалеку от химкомбината в совершенно новой части города, где кроме новых пятиэтажек ("хрущевок") уличного благоустройства тогда почти не было. Между общежитием и зданием техникума поначалу не было даже твердой дорожки, эти 200 метров мы преодолевали через грязную раскисшую от дождей землю, и у входа в здание приходилось тряпками смывать налипшую грязь с обуви в сделанных для этого железных сварных корытах с водой... Иногда со стороны химкомбината город накрывало желтоватое облако с характерным запахом. Этому ядовитому дыму было положено улетучиваться ввысь посредством высоченной тонкой трубы (говорят, у ее подножия находили мертвых птиц), однако при низкой облачности и ветре он опускался на наши новостройки...
В самом техникуме атмосфера была нравственно здоровой, хотя и в советском атеистическом смысле. Дедовщина со стороны старшекурсников в общежитии была вполне терпимой (со стыдом вспоминаю, как в начале второго курса и сам поддался этому соблазну, нарочно заливая пол в коридоре и заставляя "новобранцев" вытирать лужу). В нашей группе ценились взаимопомощь, ответственность, честность, общежитская жизнь подавляла детский эгоизм. Например, поначалу некоторые из нас сами поедали привезенные из родительского дома припасы, но вскоре стало стыдно и научились делиться со всеми. Были у нас и очень бедные ребята из сел. Стипендии в 20 рублей хватало только на скудное пропитание в столовой (зато какими вкусными были копеечные двойные гарниры с подливой!), но стипендия не полагалась выходцам из обезпеченных семей. Мои родители-инженеры считались обезпеченными, поэтому стипендию мне выдавали одну на двоих с Любой Каспаровой, семья которой тоже считалась обезпеченной. Разумеется, и родители снабжали меня деньгами.
Физику у нас преподавал сам директор Затуливетров. В первый день он поздравил нас с началом учебы и живописал такую картину: «Вы пришли в техникум после восьми классов школы, и сейчас размер ваших знаний можно сравнить с площадью форточки вот в этом окне. После окончания техникума знания увеличатся до размеров окна. В институте получите знания, сравнимые со всеми окнами в стене. И кто-то из вас на этом не остановится...»
Специальность нашей группы (КИПиА ‒ контрольно-измерительные приборы и автоматика) считалась в техникуме престижной. Нам повезло с классной руководительницей ‒ Валентиной Петровной Дзарагазовой, преподавательницей английского языка, которая была и нашей нравственной воспитательницей. Она была образцом "прогрессивного" советского преподавателя-интеллигента, какие в тогдашнем кино показывались воплотителями служебных ценностей "Кодекса строителя коммунизма". В.П. происходила из семьи крупного партийного работника-осетина, однако при этом с ее стороны не было на нас никакого идеологического влияния, только чисто человеческое. Она была старше нас всего на 14 лет, красива, стройна, аккуратна в одежде, следила за культурной жизнью и литературными новинками, брала в библиотеке кипы толстых журналов для чтения по вечерам дома. В.П. делила двухкомнатную квартиру с другой незамужней учительницей. Личная ее жизнь не сложилась из-за ранней смерти ее возлюбленного, памяти которого она осталась навсегда верна, детей у нее не было, и наша группа заменила ей личную семью ‒ она уделяла нам очень много времени и ее отношение к нам было материнским.

Ростовцев, неизвестный (Фесенко?), В.П., Попов, я, Максименко
Тем не менее уголовная атмосфера в городе не могла не влиять на наши "культурные" привычки за пределами техникума. В нашу лексику входил уголовный жаргон, вечерами мы пели "блатные" песни под гитару, обычно на детских площадках во дворах, пили при этом "Портвейн" и "Вермут" ‒ дешевые крепленые вина по рубль 22 коп. и рубль 17 коп. Однажды Валентина Петровна устроила нам "дыхательную" проверку на входе в общежитие: "Даже ты, Миша...", ‒ сказала она с укоризной, и мне было очень стыдно...
В теплое время мы собирались на берегу Кубани, опять-таки с вином, и порою специально ездили в старый город на вокзал, чтобы купить в вагонах-ресторанах проходящих курортных поездов чешское пиво, считая его "престижным". Любили прыгать с автомобильного моста в реку, быстрое течение уносило почти на километр, но после дождей в грязной воде несло мусор, ветки и однажды я был не рад такому сопровождению ветвистой коряги. В подпитии это развлечение вообще было небезопасно, но уклониться от прыжка выглядело бы трусостью.

"Граф" (Ростовцев), "Черный" (Удодов), "Видметь" (я), "Пацан" (Земсков), "Дон" (Зайцев), "Петруха" (Максименко)
Во всем этом девочки не участвовали (или участвовали очень редко) ‒ это была мужская "культура". У всех у нас были каким-то естественным образом возникавшие клички (у меня ‒ "Видметь").
С поступлением в техникум (вопреки настоятельной просьбе моего ставропольского тренера Бориса Григорьевича Демченко не делать этой "глупости") гимнастику я забросил и лишь периодически возвращался к ней: участвовал пару раз в соревнованиях и с трудом вымучил второй взрослый разряд, опять-таки из-за провала в вольных, хотя на отдельных снарядах (конь-махи, прыжок) легко выполнял обязательную норму уже следующего, первого разряда. Возвращался к тренировкам, когда в техникуме появлялся тренер. Одним из них был серебряный призер Римской олимпиады Владимир Владимирович Портной, который неведомым путем из Ленинграда оказался в Невинномысске. Видимо, это была для него ссылка, так как он страдал алкоголизмом и по этой причине вскоре был и у нас уволен. Он нам нравился, так как сразу кое-чему интересному нас научил (например, ‒ за одну тренировку ‒ соскоку с брусьев сальтом вперед), мы безуспешно пытались его отстоять, придя группой к партийному начальству города, а потом провожали его до аэропорта в Минводах, где купили ему билет в Ленинград со студенческой скидкой на фамилию одного из нас. Больше я о нем ничего не слышал, сейчас нашел в интернете год его смерти ‒ 1984.
С первого курса я особенно подружился с Юрой Зайцевым (кличка "Дон" за умение фехтовать), который увлеченно занимался акробатикой, и по инициативе его тренера на берегу Кубани устроили акробатическую дорожку из опилок; кое-что в своем арсенале вольных упражнений я там улучшил, но не существенно. Одно время я увлекся баскетболом и, несмотря на маленький рост (168 см), был полезен в игре, метко поражая кольцо со средних дистанций. Тренер даже зачислил меня во "2-ю сборную" техникума, как он выразился, хотя таковой сборной не было и ни в одной из официальных игр я так и не участвовал.
Идеологическое воспитание в техникуме не отличалось от предыдущего школьного. Разве что вдобавок к истории и литературе на последнем курсе появился предмет "Обществоведение", более целенаправленно излагавший возвышенные основы марксистско-ленинской философии. Помню, наше отношение к ним было не очень серьезное, чему способствовала наша реальная жизнь с ее лицемерием и показухой. Например, как-то нас повели на мероприятие у мемориала партизанам, отдавшим жизни "за счастье народное" в годы т.н. гражданской войны. Командовал церемонией какой-то партийный чинуша, и мне запомнилось, как он громко командовал в мегафон: "Опустите ниже знамена! Ниже! Еще ниже!" ‒ это было очень грубо и не торжественно, в диссонанс с траурным смыслом мероприятия, и это коробило присутствовавших.
В то время народная молва обсуждала снятие с должности какого-то партийного секретаря (то ли Невинномысска, то ли в районе) за аморалку или какие-то денежные растраты ‒ и это, конечно, невольно подрывало предписанную веру в непогрешимость партии. Хрущевская десталинизация и "оттепель" отчасти раскрепостила и поведение людей, многие уже не боялись критиковать глупости руководства, ходили анекдоты про Хрущева, который давал для этого немало поводов уже своим, мягко говоря, несолидным для вождя поведением.
Широкое недовольство Хрущевым обернулось радостью по поводу его отстранения от руководства страной, помню в этот день в октябре 1964 года ликование нашей вахтерши в общежитии: "Хруща сняли!", ‒ радостно сообщала она всем возвращавшимся с уроков. В этот день было еще одно весьма примечательное событие: в продовольственных магазинах неожиданно и явно показательно появился белый хлеб. Его как диковинную добычу гордо принес в общежитие Володя Жабин, и мы быстро растерзали свежеиспеченную буханку, упиваясь вкусным ароматом, ‒ значит, белая мука на складах имелась, но не для народа, а "теперь жизнь станет лучше", ‒ вот такие политические мелочи крепко засели в памяти, хотя политика меня всё еще не интересовала... На последнем курсе мы порою слушали "Голос Америки", но в основном из-за музыкальной программы.
Примерно тогда в продаже появились белые нейлоновые рубашки и плащи "болонья" ‒ эта пластиковая одежда считалась у нас более престижной (как "прогрессивное" достижение науки), чем натуральная... Мы часто ходили в кино, и оно в СССР, конечно, тоже было формой идеологического воспитания в духе соцреализма. Однако некоторые фильмы (про учителей: "Доживем до понедельника", про ученых: "Девять дней одного года") имели свободолюбивый душок, типичный для "оттепельных" шестидесятых, в художественной литературе таких авторов назвали потом "шестидесятниками". У меня этот дух с тех пор остался и на дальнейшее будущее, постепенно вырастая в антисоветский вследствие познаваемых новых противоречий между пропагандой и действительностью. Из какого-то такого фильма мне запала фраза одного из ученых персонажей: "Страстями надо жить, страстями!" ‒ это поучение (совершенно неверное с религиозной точки зрения) я понимал в пику строгим официальным порядкам и использовал в своих поздравлениях к дням рождения...
Стал дерзил некоторым преподавателям, которые мне казались скучными и глупыми бюрократами. Особенно таким моим "вниманием" пользовался учитель по КИПу Куреда, поскольку было очевидно, что он сам ничего не понимал в своем предмете и заставлял нас тупо запоминать огромные формулы уравнений с нагромождением интегралов, дифференциалов, квадратных корней и прочих символов, но лишь как некие иероглифы, без уяснения их смысла и того, как их вообще использовать в нашей будущей профессии. Поэтому с Куредой у меня был постоянный конфликт, для уяснения которого на один из уроков была прислана сторонняя наблюдательница из ненаших учителей, не знаю, поняла ли она, что Куреда не может быть нам преподавателем...
А вот электротехник В.П. Вильмсен и математик И.Э. Кайзер вызывали у меня глубокое уважение и как педагоги и чисто по-человечески. Уже их фамилии говорили о том, что они попали к нам в СССР из какого-то другого таинственного мiра и что-то еще знают, помимо своих предметов. Иван Эдуардович, внимательный и добродушный немец, так хорошо натаскал нас в работе с логарифмической линейкой, что на соревнованиях техникумов (не помню, какого уровня) "Дон" занял второе место, а мне вручили линейку с металлической табличкой: «Пахомову М., занявшему I место в олимпиаде 1965 года». Нравились также уроки немецкого, который преподавала эмоциональная и ранимая Лилия Александровна (уточнить фамилию: Лапшина?).
В то время мне полюбилось авантюрно, без денег, путешествовать на попутных машинах, в этой авантюрности мы сошлись с "Вальдемаром" (такую кличку имел В. Федотов, бабушка его была в молодости красной пулеметчицей, одноногий отец ‒ городским судьей). Смутно помню наши приключения на море с бегством от местных преследователей-кавказцев, поездку в Краснодар, однажды полетели на футбол в Москву (авиабилет стоил 35 рублей) и нагрянули без предупреждения в коммунальную комнату моей Бабуси, съев ее старушечий обед (ее суп пришлось разделить на две "мизерные порции", чем был разочарован проголодавшийся "Вальдемар").
После первого курса (летом 1964 года) на каникулах я впервые полетел в Сибирь к бабушке, на родину отца. Самолет летел из Минвод до Новосибирска с двумя промежуточными посадками, а далее в Новокузнецк на кукурузнике. Уличный народ в Новокузнецке отличался от ставропольского какой-то жесткостью, суровостью, невежливостью. И сам внешний вид города был серый, грязный ‒ от пыли и дыма работавших там заводов. Эта пыль заметным слоем покрывала бабушкин дом и листья деревьев в саду. Бабушка была рада моему приезду, и по такому случаю мы поехали на рынок, на котором она купила мясо. Видимо, у них это было не частое блюдо на столе. Она долго присматривалась и, наконец, купила, наверное, самое дешевое, которое уже было "на грани", что чувствовалось и по вкусу. То есть жили они бедновато.
Инвалид дядя Юра был известным на улице мастером бытовой техники, за работу брал "сколько дадут". Он часто слушал антисоветское китайское радио на русском языке, насмешливо комментируя его (это был период советско-китайской вражды, которая в 1969 году вылилась даже в боевые действия на амурском острове Даманский). Во дворе жил пес Боцман, который умел петь, то есть выть по заказу. Дядя Слава работал на заводе ферросплавов. Оба выпивали. Приходил их знакомый Огородников, умевший играть на семиструнной гитаре, и увлек этим меня, тогда я впервые взял ее в руки, став изучать азы по самоучителю. Кажется, первым музыкальным произведением было "Во саду ли, в огороде". На несколько дней мы ездили в деревню Околь на берегу реки Томь, где жил Порфирий Гаврилович, старый школьный учитель отца, вспоминавший, как мой отец на рыбалке упустил огромного тайменя (это сибирская речная рыба семейства лососёвых, достигающая 2 м длины и 80 кг веса). В наше время они в Томи уже не водились, но рыба была.
В Новокузнецке тогда гостил родственник с Украины, кажется студент, постарше меня лет на пять (видимо, бабушкин внучатый племянник?). С ним и с ее новокузнецким племянником Юрой Рузиным мы на лодке перебрались на покрытый деревьями живописный остров в реке, где рыбачили в протоке и ночевали в палатке, набитой сеном из обнаруженного на острове стога (его хозяин-шорец нас потом отругал за это). Мне там очень понравилось, и в следующие дни я сам вплавь, борясь с течением (оно относило метров на триста), добирался до этого острова, подолгу бродил в протоке и, видимо, после этого у меня развился ревматизм в коленях, обострившийся потом на севере и исчезнувший лишь во взрослом возрасте. (Этот остров остался в памяти сибирским "райским уголком". Но когда я в 1970-е годы снова побывал там, его уже не было: весь остров утилизировали на речную гальку для каких-то нужд... Было грустно видеть лишь голую отмель на его месте: строительство социализма было важнее природы.)
Упоминаю тут эту первую поездку в Сибирь (к моим сибирским корням) чисто хронологически как имевшую значение в моей биографии.
Странно, что вплоть до окончания техникума у нас в группе не было любовных отношений с нашими девочками. Если мы и влюблялись, то в посторонних, но не очень серьезно. В меня девочки (тоже не наши, за одним исключением) влюблялись раза четыре, но безответно, потому что я на последних курсах был платонически влюблен в Валентину Петровну. Одна из моих поклонниц по окончании учебы, видимо, это поняла и дала мне прочесть роман Голсуорси "Темный цветок", содержания которого уже не помню, но в чем-то там была параллель с моим душевным состоянием невозможной любви, и, возможно, отчасти с ее собственным... Сейчас я понимаю, что тогдашние мои критерии влюбленности или неприятия влюбленности были весьма неглубокими, внешними, и кое о чем в своем поведении могу жалеть...
Валентина Петровна на основе своих педагогических связей устраивала встречи нашей группы с иногородними сверстниками: был обмен поездками в гости с техникумом в Армавире (в их группе преобладали девочки) и один раз ездили в Ставропольский пединститут (тоже девочки), этой группой первокурсников там руководила сестра В.П. ‒ Тамара.
Наша группа КИП-11 (на каждом следующем курсе соответственно 21, 31, 41) считалась в техникуме образцовой и в учебе, и в спорте, и в художественной самодеятельности. Нас несколько раз премировали поездкой в горы в Домбай (альпинистская поляна на высоте около 1600 метров), где мы зимой катались на лыжах (спускались с высоких склонов на обычных, плохо управляемых беговых лыжах, тогда горные лыжи были нам незнакомы). Однажды осенью решили забраться на снежную вершину, и четверо из нас, наиболее упорных, без всякого снаряжения добрались почти до снега.
На смотр художественной самодеятельности нашей группы в техникуме собирался полный зал (в том числе приходили профессиональные работники дома культуры, где была театральная труппа). У нас была полноценная "классическая" программа с хором, девичьим хороводом, песнями и стихами. Наиболее примечательными номерами с моим участием были юмористические сценки типа КВНа с декламацией детских басен Чуковского: "Муха-Цокотуха" и "Тараканище" (я играл соответственно комарика и воробья). Помимо этого, был инструментальный ансамбль и вокальный квартет. В апреле 1966 года мы удостоились приглашения в Пятигорск на телевидение и, вернувшись в тот же день, принимали поздравления от всех насельников нашего общежития, которые смотрели телепередачу в "красном уголке" в прямом эфире.

На телевидении в Пятигорске: "Голуба" (Шишленко), "Джон" (Давыденко), я, "Дон" (Зайцев), Строкань, поет Володя Сурин.
В те годы новым моим увлечением стала гитара, мы создали группу в подражание "идеологически чуждым" "Битлз", играли на техникумовских вечерах. Нашим ведущим был "посторонний" (не студент) друг-пианист Валера Шишленко, мать которого была директором музыкальной школы. (Кличка у него была "Голуба", но не в современном гомосексуальном значении, мы тогда об этом никакого представления не имели, а как производное от обращения "голубчик" в одной из театральных миниатюр с его участием.) Звукосниматели для гитар мастерили из телефонных наушников, сами собирали громоздкие ламповые усилители. И музыкальную грамоту постигали самоучками, специальной литературы по шестиструнной гитаре у нас тоже не было (в России традиционной была семиструнка), пальцевые аккорды на грифе приходилось строить опытным путем. Меня приняли ритм-гитаристом в оркестр небольшого Дома культуры им Горького, который играл вечерами на танцах, и, освоившись, я мог бы подрабатывать, но Валентина Петровна отнеслась к моей попытке неодобрительно, я подчинился.
Понятно, что такие вечерние "танцы" в то время были общественно принятой формой знакомства мужчин и женщин, и обе стороны сознательно шли именно на это, а не ради танцев ‒ топтания на месте с полуобнимку. Мы тоже порою ходили на танцы в Дом культуры химиков. И в техникуме, как я уже упоминал, иногда случались "танцы". (Сейчас их заменили дискотеки и ночные клубы, где совсем иная атмосфера ‒ во время современного "танца" нет возможности поговорить с партнером, почувствовать его как личность. В эмиграции мне редко доводилось бывать в таких местах, обычно в компании по каким-то поводам, и это мне совсем не нравилось также из-за оглушающей музыки.)
От увлечения музыкальной грамотой осталось в памяти прикосновение к звуковой гармонии мiра, таившей в себе сложную стройность, которую человек не создавал сам, а открывал как изначальную, дочеловеческую, в существовавшем мiре. Или это не так? Почему эта гармония у некоторых народов своя, например, у арабов и китайцев она явно другая, которая для нас слышится как диссонанс, а они считают его музыкой? Может быть, это отражает их какую-то общую неправильность, отсталость? И с этой точки зрения, что такое джаз ‒ намеренное внесение хаоса в гармонию, которая в лучшем случае ставит какие-то не слишком строгие границы этому хаосу? Так сущность гармонии и осталась для меня тайной, потому что классической музыкой я не увлекался и остался неграмотен в этой сфере.
Подобную таинственную стройность мiроздания я ощущал и в законах физики, и в математике, отчасти в химии ‒ все они раскрывали идеальное, то есть нематериальное, строение материи (таблица Менделеева), давали ощущение будоражащей тайны в ее безконечных глубинах. Однако все прикладные технические науки (КИПиА, сопромат, технология металлов, технологические процессы и др.) были мне не интересны, я их изучал лишь по инерции вместе со всеми.
В виде иллюстрации приведу мое впечатление от завода "Красный металлист", где в то время работали мои родители (мама конструктором, отец ‒ главным механиком литейного цеха), куда я летом 1966 года попросился из техникума на положенную полугодовую практику. Это отрывок из написанного позже художественного рассказа, каким этот цех увидел мой воображаемый герой Сеня Карлов:
«На полугодовую практику он попал на тот самый завод с кирпичной трубой, который изнутри выглядел как символический монумент человеческого труда. Для новичка литейный цех с вагранками казался монстром в металлических джунглях, в которых, однако, угадывался сложный порядок: добытые из земли металлы, отлитые и откованные в геометрические конструкции, были разделены на массу круглых, продолговатых, плоских, кубических частей, слагавшихся в разные агрегаты, двигавшиеся и существовавшие во взаимной гармонии с назначенными им целями. И всем этим правильным соотношением рассчитанных размеров, форм, сочленений управляло изнутри математическое число, которое заложено в самом строении природы, но инженеры его извлекли и поставили себе на службу. Завод, может, не так уж и нужен человечеству, но инженерам точно нужен, иначе для чего их профессия? Число там господствует в чертежах, по которым собраны машины, движется по проводам, вращает роторы, плавит сталь своей энергией, оно куется паровыми молотами и его измеряют автоматические приборы в виде веса, длины, температуры, давления, скорости. Было бы интересно исследовать внутренний родословный смысл всей металлической промышленности, но Сеня уже никогда не возвращался к техникумовской профессии. Его больше интересовало не внутреннее устройство мира, а пространственное, отображенное на картах...»
Впрочем, основные конструкции и оборудование на заводе были еще дореволюционными, усталость старого металла часто приводила к авариям, из-за которых отец, бывало, по нескольку дней не возвращался домой, ночуя в цеху. Не лучше было и с прочим оборудованием: мы, электрики, перебирали обгоревшие пускатели, собирая из пригодных деталей старых блоков пригодные работоспособные...
Трудиться, нам, студентам, приходилось на всех четырех курсах. Это и упомянутое строительство спортзала, и каждую осень месяц-полтора на сборе винограда в разных предгорных районах, где нужно было выполнять норму в течение полного рабочего дня. Первые дни все объедались виноградом до расстройства желудка, и потом больше "смотреть на него не могли". Еду нам привозили на лошадях из колхозной кухни, раздавали в металлическую посуду, и ели мы прямо на винограднике, сидя на земле. Особенно тяжело было в дождливое время, когда мы простужались, но все равно приходилось работать.
Гораздо приятнее были летние трудовые лагеря на Черном море в бухте Псоу (сейчас это граница с Абхазией). Жили в палатках, последний раз в деревянных домиках из горбыля. Полдня мы работали в совхозе на прополке, уборке овощей и сена, пару раз пришлось поехать грузчиками тухлой рыбы с рыбзавода, предназначенной для корма свиньям ‒ ужасный был запах!

На полевых работах в совхозе, снизу вверх: "Вальдемар" (Федотов), "Кеша" (Никитов), "Видметь". Слева "Комар" (Комаров), справа "Пацан" (Земсков).
Вторая половина дня была отдыхом на пляже, игрой в футбол, вечером ‒ "танцы" в поселковом клубе. В выходные дни самостоятельно ездили в Сочи, Адлер, в Гагры. (В 2007 году мы с Надей ездили в Невинномысск на 40-летие выпуска и заодно на неделю в Абхазию, на один день остановились в бухте Псоу, где место нашего техникумовского лагеря я нашел с трудом: на месте клуба были развалины, вся территория была застроена частными домами...)
На последнем курсе я почувствовал, что техническая профессия ‒ это совсем не моё, меня всё больше интересовал смысл жизни, смысл мiра ‒ для чего мы родились в нем? Большое влияние на меня произвела встреча с Виктором Шарковым, студентом МИФИ, который поехал с нами в лагерь на море и дал мне импульс стремления к познанию, мне с этого времени стало казаться, что для меня ничего невозможного нет, нужно только захотеть. (В интернете я недавно узнал, что Шарков стал известным ученым-оригиналом, поборником альтернативных технологий, но связаться с ним в Москве не удалось.)

Бухта Псоу: Евдокимов, Удодов, я, Ира Тарнопольская, Шарков, Попов, Давыденко, Марахов, Федотов.
В это время меня стали раздражать строгие порядки в общежитии, где комендантша запрещала нам вешать над кроватями фотографии наших кумиров ‒ в моем случае "Биттлс" и чемпионов-гимнастов. Когда мы были на занятиях, она устраивала рейды по комнатам (в каждой было пять кроватей по периметру) и срывала картинки. (В одной из комнат ребята повесили плакат "Моральный кодекс строителя коммунизма", который при его открытии обнаруживал Джину Лоллобриджиду в пеньюаре, думаю, что в этот "Моральный кодекс" наша борица за нравственность не заглядывала и потому хвалила эту комнату как пример всем.) В отместку комендантше я глупо, в подпитии, разбил гирей стенку из стеклоблоков на нашем этаже ‒ кто-то донес, и мне грозило отчисление, но Валентина Петровна всё как-то уладила. Правда, и в моей выпускной характеристике, в основном положительной, она честно написала: "Отличается строптивостью характера".
В последний семестр я совсем забросил учебу в техникуме и с трудом, благодаря зрительной памяти, сдал последние экзамены по техническим предметам (хуже всего по теплотехнике: получил тройку; к сожалению, вкладыш к моему диплому с оценками утерян). Я тогда уделял основное время экзаменам по получению экстерном аттестата в Ставрополе, с которым надеялся поступить в дневной гуманитарный институт без необходимости отрабатывать три года на производстве, что полагалось после техникума. Школьный аттестат получил идеальный (но экстернам золотая медаль не полагалась, о чем мне с сожалением сообщил директор той ставропольской школы).

Наш выпускной банкет был устроен в начале июня 1967 года в кафэ-стекляшке на улице Менделеева. Это был прощальный акт окончания прежнего нашего техникумовского мiра ‒ вот его неожиданно больше нет, впереди заманчивый безбрежный океан взрослой жизни. Валентина Петровна, как бывший капитан с чувством выполненного долга, там же провожала нас в этот самостоятельный путь... Так мы через окна стекляшки шагнули в новое измерение свободы, некоторые наши мальчики и девочки взглянули друг на друга уже иными глазами...
После того, как по окончании техникума наша группа разъехалась, кто домой, ждать призыва в армию, кто по распределению в Среднюю Азию и Прибалтику (девочки), стало зарождаться ностальгическое чувство по нашей недавней дружной общности.
Очень запомнились проводы "Пацана" (Гены Земскова) в армию, которые его родители устроили неподалеку от Невинки в поселке СПТУ (училище механизации). Это был грандиозный пир во дворе, под сооруженными брезентовыми навесами ‒ человек на 50. Ели и пили полтора дня, отвлекаясь лишь на сон и ловлю раков в пруду... В ноябре того же года мы с "Петрухой" решили навестить "Пацана" в Ереване, где он проходил обучение в школе сержантов. Летели туда на самолете, город оказался красивым, во многих зданиях были заметны округлые армянские национальные "гены", и было еще тепло. "Пацан" проходил учебу на отдельном курсе связистов, где контроля начальства было меньше, поэтому нас через дыру в заборе провели в казарму и для маскировки одели в военную форму, мы сутки вместе со всеми там спали, ходили в столовую, а вечером маршировали на плацу ‒ это называлось "вечерняя прогулка", когда взвод, строем шагая в ногу, орет свою песню, одновременно другие взводы ‒ свои песни, и в целом получается какофония.

Петруха и Видметь в Ереване
Связь в переписке мы со многими в последующие годы не теряли, а с местными регулярно встречались. Например, когда летом 1970 года "Пацан" вернулся из армии, а я вернулся с Челюскина, мы решили с ним без предупреждения поехать к "Дону" в Благодарное (он тоже тогда демобилизовался). Дома его не оказалось, прождали полдня, пока он не появился, весь обремененный житейскими заботами, зато хотя бы повидались и в тот же день вернулись в Ставрополь на кукурузнике.
Ни со школьными друзьями в Ставрополе, ни позже с однокашниками московского института (за исключением нашей антисоветской группы) у меня такого чувства общности не было.
Техникумовское время дало нам нравственно много важного. Это был возраст становления в нас неписаных нравственных ценностей, независимых от официальной идеологии (которая на них паразитировала), ‒ видимо, поэтому наша юношеская дружба сохранилась до сих пор, хотя профессии в жизни у многих из нас стали другими. Мы, по возможности, собираемся на юбилейные даты в Невинке и вспоминаем былое, как бы включая машину времени.
Вспоминая образное сравнение директора Затуливетрова с форточкой и окном знаний, скажу свое мнение о "лучшем в мiре советском образовании", каким его до сих пор считают многие в нашей стране. И не без оснований. Уже в техникуме, судя по обширному перечню изучавшихся предметов, профессиональные знания в естественных науках и в технике давались всесторонние. Чтобы дать представление об их объеме размещаю вкладыш к диплому Юры Зайцева (мой, к сожалению, утерян).

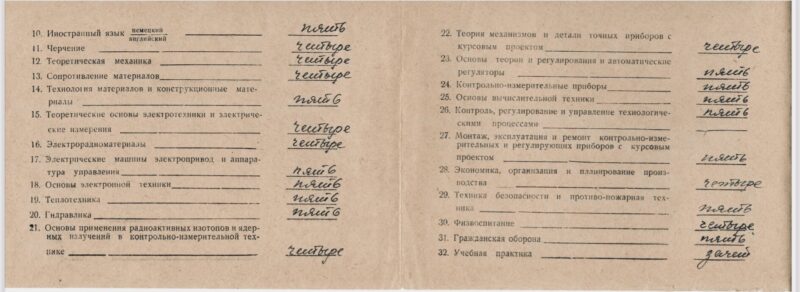
При их должном усвоении студентами, заинтересованными в этой жизненной профессии, они открывали "окно" в практическое и научное освоение материального мiра на пользу своему народу. Такие "технари", увлеченно и досконально познавшие предмет своего дела, неразрывно срослись с ним, видели в нем суть своей жизни, были ходячими энциклопедиями и носителями огромного созидательного опыта, ‒ сужу по своим родителям.
Такими высококлассными специалистами стали и некоторые из нашей группы, окончившие затем технические институты и достигшие высоких должностей, например, Валера Удодов, который еще в техникуме призывал "грызть гранит" технических наук, стал главным энергетиком "Внештрейдинвеста", в последнее время до пенсии был начальником бюро по подготовке персонала ОАО "Еврохим".
Андрей Калмыков стал начальником крупного цеха на Невинномыском химкомбинате, где каждый цех по размерам соответствует целому заводу и далеко не каждый начальник имеет способности к руководству такого масштаба.
Гена Земсков стал начальником цеха на Волгоградской ТЭЦ-3.
Толик Ростовцев работал ведущим инженером-инспектором МУП Теплосеть г. Ставрополя.
Юра Зайцев ‒ главным инженером в «Благодарныймежрайгазе»; заместителем главного инженера по охране труда в «Газпром добыча Ноябрьск»; затем там же председателем Объединённой профсоюзной организации (примерно 3 500 членов профсоюза).
(можно пополнить список?)
Предполагаю, что до немалых высот в научно-технической области могли подняться целеустремленные еще в техникуме Толик Комаров, Игорь Осипов, Володя Жабин.
Но для этого нужно было еще иметь именно такое жизненное призвание, без которого в человечестве не было бы выдающихся ученых-естественников и конструкторов. У меня такого призвания изначально не было, в естественных науках я видел лишь отблеск тайны о мiре, которую советское техническое образование не открывало, а в гуманитарных науках тупо ее фальсифицировало религией марксизма-ленинизма, и тем самым советское образование было худшим в мiре. Поэтому для меня в искомой области знаний и техникум и даже московский элитарный гуманитарный институт оставались форточками во всё еще остававшийся таинственным смысл жизни, который ощущался, его не могло не быть, но пришлось познавать его в совсем другой системе образования, открывшейся мне в эмиграции (об этом я уже написал в отдельной статье: "Опыт философской автобиографии"). И по возвращении в Россию мне было приятно, что такие мои техникумовские друзья, как Юра Зайцев и Андрей Калмыков, оказались в этой области понимающими единоверцами, которым пригодились мои книги.
Данные записи я сейчас предназначаю для своих детей и ограничиваюсь штрихами только из своей биографии. Надеюсь, кто-то другой сможет подробнее описать КИП-41-67 как уникальное явление в истории НХМТ. (Быть может, это сделает Ира Тарнопольская, тоже ставшая православной в эмиграции, в Японии, и ее побудит к этому ее ностальгия?)
Ниже ‒ выпускное фото нашей группы.

Как я строил социализм
Поступить в московский иняз с аттестатом, полученным экстерном, не удалось, хотя сдал вступительные экзамены на все четверки и набрал проходной балл (возможно, не приняли из-за указания в автобиографии на окончание техникума, что означало и необходимость отработать три года). Попробовал с этими баллами подать документы в Пятигорский иняз, но тоже отказали. Пришлось срочно сдавать совсем другие экзамены в Ставропольский филиал Краснодарского политехнического, на заочное обучение (чтобы получить отсрочку от призыва в армию, которая как раз в 1967 году была распространена и на заочников).
Вернусь к своей короткой производственной биографии, которая была не самой важной частью моей жизни, хотя и дала полезный опыт, который пригодился, в том числе в переводческой работе. Началась моя трудовая деятельность на месячной монтажной практике в 9-м цеху Невинномысского химкомбината, где я с удивлением встретился с вопиющей безхозяйственностью, расточительностью материалов и халтурой ‒ всё это было обыденностью в бригаде монтажников, куда меня определили. В морозную погоду в строящихся бетонных коробках цеховых помещений и переходов мы протягивали провода измерительных приборов сквозь трубы, кое-где при этом повреждалась изоляция, и вместо того, чтобы вытащить пучок проводов и всё сделать заново, монтажники сначала стучали молотком по изгибам труб в предполагаемых местах замыкания в надежде, что там что-то исправится.
На четвертом курсе моя производственная деятельность продолжилась в литейном цехе "Красного металлиста", о чем я уже упомянул, там я получил первую зарплату и трудовую книжку. По окончании техникума получил распределение в литовскую Ионаву, но не поехал, а остался в Невинке, где еще оставалось несколько наших, и стал работать на химкомбинате в цехе 1А с немецким оборудованием, хотя это мне совсем не нравилось.
Замечу в виде справки, что, в отличие от "несправедливого капиталистического мiра с его эксплуатацией и безработицей", в СССР безработицы не было. В советской Конституции 1936 года провозглашалось (ст. 12): «Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу "кто не работает, тот не ест"». Цитата была взята из Нового Завета (Второе послание апостола Павла фессалоникийцам), но переосмыслена в административно-принудительном значении [*]. В 1951 году появился указ «О мерах борьбы с антиобщественными, паразитическими элементами», предписывавший отправлять бродяг, попрошаек и тунеядцев на поселение в отдалённые районы. В следующие несколько лет под действие этого указа попали около полумиллиона человек.

В 1961 году "апостольский" трудовой принцип вошел в "Моральный Кодекс строителя коммунизма" (пункт 2): «Добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест». В том же году был издан указ «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни». В Уголовном кодексе появилось наказание за тунеядство (ст. 209). Тех, кто своё конституционное право трудиться не ценил и не работал более четырех месяцев, ждали неприятные последствия: он объявлялся "тунеядцем" и "паразитом". «Лица, уклоняющиеся от общественно полезного труда и ведущие антиобщественный паразитический образ жизни... подвергаются по постановлению районного (городского) народного суда выселению в специально отведённые местности на срок от 2 до 5 лет с привлечением к труду по месту поселения»; имущество осужденного при этом могли конфисковать как нажитое «нечестным путем». Обвиненных в тунеядстве называли людьми без определенного рода занятий, сокращенно БОРЗ, ‒ отсюда слово "борзый" приобрело значение наглеца, не подчиняющегося социалистическим общественным нормам. Исключение составляли женщины, воспитывающие маленьких детей, и узаконенные лица творческих профессий (это было одной из причин того, что писатели, художники, композиторы стремились попасть в члены соответствующих Союзов).
[*]Примечание. Поясню также, какой смысл вкладывал в свои слова апостол Павел. Некоторые новообращенные христиане, услышав что скоро будет Второе пришествие Христа, бросили работу и заботы о пропитании семей. К таким людям Павел и обратился: «Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас, ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам; ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас, ‒ не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб» (2 Фес.2, 3:6-12).

В цеху 1А
Быстро оказалось, что мои техникумовские знания на практике едва тянули на 3-й разряд рядового киповца, и цеховой начальник КИПа стал меня усиленно наставлять в практической работе, в основном это было связано с пневматическими системами (чему в техникуме нас учили мало, в отличие от электрической части). Вскоре, стал работать дежурным киповцем в том числе в ночные смены, где работы было мало, только при устранении редких неисправностей, можно было много читать, писать письма, но мой старший коллега Шабунин, тоже выпускник НХМТ, про это "безделье" мудро говорил: "Киповцу платят не за то, что он делает, а за то, что он может сделать". Это правило, разумеется, применимо и ко многим другим квалифицированным профессиям, в которых, на первый взгляд, люди "бездельничают" на зарплате.
Ночные смены продолжительностью, если не ошибаюсь, в две недели выбивали из биологического ритма, возвращение в него было неприятной ломкой и занимало пару дней.
В том году меня, до сих пор единственный раз в жизни, сильно избили вечером у нашего кинотеатра, где я, геройствуя, заступился за незнакомую девушку, которой какой-то наглый мерзавец, просто проходя мимо, харкнул в лицо. Я ему спонтанно нанес удар, он убежал, но через четверть часа вернулся с корешами. Они меня повалили и били ногами, пока старший не сказал: "Ну хватит, ему уже достаточно". На следующий день мое лицо выглядело как сплошной синяк с красными, как редиска, глазами. На работе я сказал, что на баскетбольной тренировке налетел лицом на стену в спортзале.
В это время я предпринял свои первые литературно-стихотворные опыты в подражание торжественным одам конца XVIII века, правда, сатирические ‒ в отношении коллег по работе. Писал эти стихи на киповских приборных рулонах, зачитывал при всем коллективе в ЦПУ и дарил упоминаемым персонажам.
Мы с Геной Максименко ("Петрухой"), работавшим на том же комбинате, решили уйти из рабочего общежития, где атмосфера уже сильно отличалась от студенческой, и сняли комнату у пожилой женщины, спали на одной широкой супружеской кровати. Стали налаживать связи со всеми нашими, кто куда разъехался. С поощрения Валентины Петровны выпустили обзорную стенгазету КИП-47-67 ‒ кто где работает или служит ‒ для ежегодного вечера механиков в техникуме (киповцев относили к механикам, были также вечера технологов). И участие в концерте уже в измененном составе ансамбля приняли.
Наконец, мы с Геной вернулись к родителям в любимый Ставрополь и стали работать на заводе люминофоров. Там уже было привычнее иметь дело не с киповским "воздухом" в шлангах и трубках для пневматического регулирования химических процессов, а с электронами, движущимися в проводах для регулировки температуры в печах. Опять-таки работа была посменная, ночами было много времени для чтения. Читал я всё, что привлекало мое внимание, методом тыка.
Я уже писал, что у меня тогда возник острый настрой поиска смысла жизни, но не знал, где его искать, и ждал какого-то просветления, которого стремился достичь в чтении, походах в горы и вообще в природу с ночевками в палатке. Много читал без определенной программы, большое впечатление осталось от "Мартина Идена", и я подобно герою этого романа стал усиленно заниматься самообразованием.
В это время мы с Геной должны были готовиться к первым сессионным экзаменам в политехе, и я впервые внимательно прочел предписанный программой учебник по коммунистической идеологии, которая поначалу и впервые показалась мне правильной, глубокой и даже благородной ‒ вот он, смысл жизни. Такое же впечатление было у Гены. Однако у нас было и одинаковое ощущение сожаления, что люди не относятся к этому серьезно, даже сами местные коммунистические активисты, поэтому коммунистическая идея счастливого будущего остается лишь несбыточной сказкой.
Упустил тогда случай "разбогатеть": в нашем цеху постоянно сгорали термопары, и их щедро списывали без дальнейшего учета утилизации. А сделаны они были из двух проволочек: платиновой и платинородиевой (нынешняя цена такой платиновой проволоки в интернете ‒ 1500 руб. за грамм, а родий в 15 раз дороже). Скомканные остатки этой драгоценной проволоки в одном клубке мы держали на столе в киповской дежурной комнате, куда мог зайти каждый. И однажды этот уже почти полукилограммовый драгоценный клубок просто исчез: кто-то всё же нашелся, способный его оценить.
Гитарист Валентин Прозоров, именно он увлек нас шестиструнной гитарой в техникуме, пригласил меня в создаваемый им в Ставрополе ансамбль того же "битлового" формата. Я успел один раз участвовать в концерте в здании проектного института на площади Ленина, один раз играл на вечере в Торговом техникуме в районе Верхнего рынка, причем там при выгрузке аппаратуры я повредил свой ламповый усилитель, и мое участие в общем звучании нашей группы было жалким дребезжанием. Тем не менее: "На, держи заработанное!" ‒ вручил мне Валёк с насмешкой мои 10 рублей... (Он был талантливый гитарист, одержимый этой профессией, но много пил, интересна его дальнейшая музыкальная судьба...)
Благодаря Гене у нас тогда сложилась небольшая дружеская компания с Ирой Б. и ее сводной сестрой Наташей, которая предложила, чтобы каждый из нас следил за определенной информацией (политической, научной, культурной) и периодически делал об этом сообщения в нашем кругу. Хорошая идея не осуществилась, так как я вскоре уехал на Диксон.
В Ставрополе я тогда проработал всего четыре месяца. Стало скучно и безперспективно. Решил отправиться за смыслом жизни в Арктику (отчасти под впечатлением рассказов Джека Лондона). Подал заявление об увольнении, но руководство люминофоровского КИПа решило меня задержать с помощью военкомата: за мной на работу (завод находился за городской чертой) приехала машина, меня взяли прямо в спецовке, привезли в центр города к майору Лысенко, который наорал на меня, пригрозил призывом в армию (хотя я как студент-заочник имел право на отсрочку) и выставил на улицу. Не имея с собой денег для троллейбуса, добирался до завода зайцем.
Затем я пошел в горком то ли комсомола, то ли партии (на просп. Карла Маркса) с просьбой "выписать мне комсомольскую путевку" на Север. Надо мной там посмеялись. Решил ехать сам, невзирая на угрозы майора Лысенко.
Сейчас я никого из своих детей не отпустил бы в такую авантюру, да и в уголовный Невинномысск в 14-летнем возрасте. Но мои родители не ограничивали моей самостоятельности в выборе решений. На ставропольском вокзале меня провожали в Москву мама и Ира Б., дружившая с Геной. До отхода поезда еще оставалось время, но мама попрощалась, ей нужно было вернуться на работу. Ира, "оранжерейный" ребенок в элитной семье, окруженный родительской заботой, сказала: "Хочу такую маму"...
«В купе собачий холод и председатель Ставропольского райпотрбесоюза (фамилия)», ‒ так начинался мой тогдашний северный дневник, к сожалению, пропавший потом в Алжире...
Северный период своей трудовой деятельности я выделю в отдельную главку, так как он дал мне особый опыт.
Невинномысск
Если вернуться к сравнению своей биографии с саженцем, хилым в Макеевке, окрепшем в Бешпагире и начавшим пускать первые боковые ветви в Ставрополе, то чтобы деревце не вытягивалось ввысь тонким главным стеблем, садоводы его срезают для образования кроны боковыми ветвями. Это я сделал себе сам ‒ пресек возможную благополучную вертикальную линию своей биографии: 10 классов, институт и затем работа с высшим образованием в обретенной профессии. Мне предстоял иной путь, выбираемый детьми из менее благополучных семей, в которых им приходится несколько раньше обрести трудовую профессию, одновременно с окончанием среднего образования, и не слишком "интеллектуальную".
Невинномысская казачья станица была основана в 1825 году в месте впадения в Кубань реки Большой Зеленчук, примерно в 40 км от Ставрополя. Еще в 1784 году там был основан оборонительный редут от турок и в последующие годы было много боев с налетавшими абреками-горцами. (Происхождение названия станицы краеведами не уточнено.) В революционные годы местное казачество было на стороне белых, на всем Северном Кавказе шли ожесточенные бои. Станица Невинномысская пережила красный террор и "расказачивание", голод 1921 года, раскулачивание и сплошную коллективизацию с еще более страшным голодом, безбожную пятилетку и обычный для всего СССР террор. После войны началось промышленное строительство и в 1960-е годы население города насчитывало уже около 60 тысяч жителей.
Невинномысский химико-механический техникум в крае был известным в связи с тем, что химия была тогда провозглашена партией главной отраслью для построения коммунизма (в 1958 году Хрущев усовершенствовал известную ленинскую формулу, придав ей такой вид: «Коммунизм ‒ это есть Советская власть плюс электрификация всей страны и химизация народного хозяйства»).
Вступительные экзамены в техникум мы с Генкой Ушаковым сдали успешно, при этом негласным условием поступления для менее успешных была работа на строительстве спортзала, прилегающего к основному зданию. Кажется, это был крупнейший тогда спортзал в крае, по крайней мере, для техникумов. Охотно набирали спортсменов, и мои спортивные грамоты также были приняты во внимание, поэтому меня 14-летнего зачислили, хотя до положенных 15 лет к началу учебы не хватало 18 дней.
Став химической столицей Северного Кавказа, Невинномысск превратился в очень криминальный город, так как в нем на строительстве химкомбината работали тысячи т.н. "химиков" ‒ условно освобожденных уголовников. Была небольшая, но сплоченная азербайджанская группировка. Часто случались убийства, не говоря уже о групповых драках, нередко тоже со смертельными исходами, в которых иногда участвовали и старшие студенты техникума. В таких случаях директор техникума Федор Иванович Затуливетров объявлял ЧП и собирал все группы в актовом зале для общественного суда над провинившимися ‒ в назидание всем остальным. Такая городская атмосфера, вероятно, дала нам некоторую закалку к внешнему неблагополучию.
Техникум находился неподалеку от химкомбината в совершенно новой части города, где кроме новых пятиэтажек ("хрущевок") уличного благоустройства тогда почти не было. Между общежитием и зданием техникума поначалу не было даже твердой дорожки, эти 200 метров мы преодолевали через грязную раскисшую от дождей землю, и у входа в здание приходилось тряпками смывать налипшую грязь с обуви в сделанных для этого железных сварных корытах с водой... Иногда со стороны химкомбината город накрывало желтоватое облако с характерным запахом. Этому ядовитому дыму было положено улетучиваться ввысь посредством высоченной тонкой трубы (говорят, у ее подножия находили мертвых птиц), однако при низкой облачности и ветре он опускался на наши новостройки...
В самом техникуме атмосфера была нравственно здоровой, хотя и в советском атеистическом смысле. Дедовщина со стороны старшекурсников в общежитии была вполне терпимой (со стыдом вспоминаю, как в начале второго курса и сам поддался этому соблазну, нарочно заливая пол в коридоре и заставляя "новобранцев" вытирать лужу). В нашей группе ценились взаимопомощь, ответственность, честность, общежитская жизнь подавляла детский эгоизм. Например, поначалу некоторые из нас сами поедали привезенные из родительского дома припасы, но вскоре стало стыдно и научились делиться со всеми. Были у нас и очень бедные ребята из сел. Стипендии в 20 рублей хватало только на скудное пропитание в столовой (зато какими вкусными были копеечные двойные гарниры с подливой!), но стипендия не полагалась выходцам из обезпеченных семей. Мои родители-инженеры считались обезпеченными, поэтому стипендию мне выдавали одну на двоих с Любой Каспаровой, семья которой тоже считалась обезпеченной. Разумеется, и родители снабжали меня деньгами.
Физику у нас преподавал сам директор Затуливетров. В первый день он поздравил нас с началом учебы и живописал такую картину: «Вы пришли в техникум после восьми классов школы, и сейчас размер ваших знаний можно сравнить с площадью форточки вот в этом окне. После окончания техникума знания увеличатся до размеров окна. В институте получите знания, сравнимые со всеми окнами в стене. И кто-то из вас на этом не остановится...»
Специальность нашей группы (КИПиА ‒ контрольно-измерительные приборы и автоматика) считалась в техникуме престижной. Нам повезло с классной руководительницей ‒ Валентиной Петровной Дзарагазовой, преподавательницей английского языка, которая была и нашей нравственной воспитательницей. Она была образцом "прогрессивного" советского преподавателя-интеллигента, какие в тогдашнем кино показывались воплотителями служебных ценностей "Кодекса строителя коммунизма". В.П. происходила из семьи крупного партийного работника-осетина, однако при этом с ее стороны не было на нас никакого идеологического влияния, только чисто человеческое. Она была старше нас всего на 14 лет, красива, стройна, аккуратна в одежде, следила за культурной жизнью и литературными новинками, брала в библиотеке кипы толстых журналов для чтения по вечерам дома. В.П. делила двухкомнатную квартиру с другой незамужней учительницей. Личная ее жизнь не сложилась из-за ранней смерти ее возлюбленного, памяти которого она осталась навсегда верна, детей у нее не было, и наша группа заменила ей личную семью ‒ она уделяла нам очень много времени и ее отношение к нам было материнским.

Ростовцев, неизвестный (Фесенко?), В.П., Попов, я, Максименко
Тем не менее уголовная атмосфера в городе не могла не влиять на наши "культурные" привычки за пределами техникума. В нашу лексику входил уголовный жаргон, вечерами мы пели "блатные" песни под гитару, обычно на детских площадках во дворах, пили при этом "Портвейн" и "Вермут" ‒ дешевые крепленые вина по рубль 22 коп. и рубль 17 коп. Однажды Валентина Петровна устроила нам "дыхательную" проверку на входе в общежитие: "Даже ты, Миша...", ‒ сказала она с укоризной, и мне было очень стыдно...
В теплое время мы собирались на берегу Кубани, опять-таки с вином, и порою специально ездили в старый город на вокзал, чтобы купить в вагонах-ресторанах проходящих курортных поездов чешское пиво, считая его "престижным". Любили прыгать с автомобильного моста в реку, быстрое течение уносило почти на километр, но после дождей в грязной воде несло мусор, ветки и однажды я был не рад такому сопровождению ветвистой коряги. В подпитии это развлечение вообще было небезопасно, но уклониться от прыжка выглядело бы трусостью.

"Граф" (Ростовцев), "Черный" (Удодов), "Видметь" (я), "Пацан" (Земсков), "Дон" (Зайцев), "Петруха" (Максименко)
Во всем этом девочки не участвовали (или участвовали очень редко) ‒ это была мужская "культура". У всех у нас были каким-то естественным образом возникавшие клички (у меня ‒ "Видметь").
С поступлением в техникум (вопреки настоятельной просьбе моего ставропольского тренера Бориса Григорьевича Демченко не делать этой "глупости") гимнастику я забросил и лишь периодически возвращался к ней: участвовал пару раз в соревнованиях и с трудом вымучил второй взрослый разряд, опять-таки из-за провала в вольных, хотя на отдельных снарядах (конь-махи, прыжок) легко выполнял обязательную норму уже следующего, первого разряда. Возвращался к тренировкам, когда в техникуме появлялся тренер. Одним из них был серебряный призер Римской олимпиады Владимир Владимирович Портной, который неведомым путем из Ленинграда оказался в Невинномысске. Видимо, это была для него ссылка, так как он страдал алкоголизмом и по этой причине вскоре был и у нас уволен. Он нам нравился, так как сразу кое-чему интересному нас научил (например, ‒ за одну тренировку ‒ соскоку с брусьев сальтом вперед), мы безуспешно пытались его отстоять, придя группой к партийному начальству города, а потом провожали его до аэропорта в Минводах, где купили ему билет в Ленинград со студенческой скидкой на фамилию одного из нас. Больше я о нем ничего не слышал, сейчас нашел в интернете год его смерти ‒ 1984.
С первого курса я особенно подружился с Юрой Зайцевым (кличка "Дон" за умение фехтовать), который увлеченно занимался акробатикой, и по инициативе его тренера на берегу Кубани устроили акробатическую дорожку из опилок; кое-что в своем арсенале вольных упражнений я там улучшил, но не существенно. Одно время я увлекся баскетболом и, несмотря на маленький рост (168 см), был полезен в игре, метко поражая кольцо со средних дистанций. Тренер даже зачислил меня во "2-ю сборную" техникума, как он выразился, хотя таковой сборной не было и ни в одной из официальных игр я так и не участвовал.
Идеологическое воспитание в техникуме не отличалось от предыдущего школьного. Разве что вдобавок к истории и литературе на последнем курсе появился предмет "Обществоведение", более целенаправленно излагавший возвышенные основы марксистско-ленинской философии. Помню, наше отношение к ним было не очень серьезное, чему способствовала наша реальная жизнь с ее лицемерием и показухой. Например, как-то нас повели на мероприятие у мемориала партизанам, отдавшим жизни "за счастье народное" в годы т.н. гражданской войны. Командовал церемонией какой-то партийный чинуша, и мне запомнилось, как он громко командовал в мегафон: "Опустите ниже знамена! Ниже! Еще ниже!" ‒ это было очень грубо и не торжественно, в диссонанс с траурным смыслом мероприятия, и это коробило присутствовавших.
В то время народная молва обсуждала снятие с должности какого-то партийного секретаря (то ли Невинномысска, то ли в районе) за аморалку или какие-то денежные растраты ‒ и это, конечно, невольно подрывало предписанную веру в непогрешимость партии. Хрущевская десталинизация и "оттепель" отчасти раскрепостила и поведение людей, многие уже не боялись критиковать глупости руководства, ходили анекдоты про Хрущева, который давал для этого немало поводов уже своим, мягко говоря, несолидным для вождя поведением.
Широкое недовольство Хрущевым обернулось радостью по поводу его отстранения от руководства страной, помню в этот день в октябре 1964 года ликование нашей вахтерши в общежитии: "Хруща сняли!", ‒ радостно сообщала она всем возвращавшимся с уроков. В этот день было еще одно весьма примечательное событие: в продовольственных магазинах неожиданно и явно показательно появился белый хлеб. Его как диковинную добычу гордо принес в общежитие Володя Жабин, и мы быстро растерзали свежеиспеченную буханку, упиваясь вкусным ароматом, ‒ значит, белая мука на складах имелась, но не для народа, а "теперь жизнь станет лучше", ‒ вот такие политические мелочи крепко засели в памяти, хотя политика меня всё еще не интересовала... На последнем курсе мы порою слушали "Голос Америки", но в основном из-за музыкальной программы.
Примерно тогда в продаже появились белые нейлоновые рубашки и плащи "болонья" ‒ эта пластиковая одежда считалась у нас более престижной (как "прогрессивное" достижение науки), чем натуральная... Мы часто ходили в кино, и оно в СССР, конечно, тоже было формой идеологического воспитания в духе соцреализма. Однако некоторые фильмы (про учителей: "Доживем до понедельника", про ученых: "Девять дней одного года") имели свободолюбивый душок, типичный для "оттепельных" шестидесятых, в художественной литературе таких авторов назвали потом "шестидесятниками". У меня этот дух с тех пор остался и на дальнейшее будущее, постепенно вырастая в антисоветский вследствие познаваемых новых противоречий между пропагандой и действительностью. Из какого-то такого фильма мне запала фраза одного из ученых персонажей: "Страстями надо жить, страстями!" ‒ это поучение (совершенно неверное с религиозной точки зрения) я понимал в пику строгим официальным порядкам и использовал в своих поздравлениях к дням рождения...
Стал дерзил некоторым преподавателям, которые мне казались скучными и глупыми бюрократами. Особенно таким моим "вниманием" пользовался учитель по КИПу Куреда, поскольку было очевидно, что он сам ничего не понимал в своем предмете и заставлял нас тупо запоминать огромные формулы уравнений с нагромождением интегралов, дифференциалов, квадратных корней и прочих символов, но лишь как некие иероглифы, без уяснения их смысла и того, как их вообще использовать в нашей будущей профессии. Поэтому с Куредой у меня был постоянный конфликт, для уяснения которого на один из уроков была прислана сторонняя наблюдательница из ненаших учителей, не знаю, поняла ли она, что Куреда не может быть нам преподавателем...
А вот электротехник В.П. Вильмсен и математик И.Э. Кайзер вызывали у меня глубокое уважение и как педагоги и чисто по-человечески. Уже их фамилии говорили о том, что они попали к нам в СССР из какого-то другого таинственного мiра и что-то еще знают, помимо своих предметов. Иван Эдуардович, внимательный и добродушный немец, так хорошо натаскал нас в работе с логарифмической линейкой, что на соревнованиях техникумов (не помню, какого уровня) "Дон" занял второе место, а мне вручили линейку с металлической табличкой: «Пахомову М., занявшему I место в олимпиаде 1965 года». Нравились также уроки немецкого, который преподавала эмоциональная и ранимая Лилия Александровна (уточнить фамилию: Лапшина?).
В то время мне полюбилось авантюрно, без денег, путешествовать на попутных машинах, в этой авантюрности мы сошлись с "Вальдемаром" (такую кличку имел В. Федотов, бабушка его была в молодости красной пулеметчицей, одноногий отец ‒ городским судьей). Смутно помню наши приключения на море с бегством от местных преследователей-кавказцев, поездку в Краснодар, однажды полетели на футбол в Москву (авиабилет стоил 35 рублей) и нагрянули без предупреждения в коммунальную комнату моей Бабуси, съев ее старушечий обед (ее суп пришлось разделить на две "мизерные порции", чем был разочарован проголодавшийся "Вальдемар").
После первого курса (летом 1964 года) на каникулах я впервые полетел в Сибирь к бабушке, на родину отца. Самолет летел из Минвод до Новосибирска с двумя промежуточными посадками, а далее в Новокузнецк на кукурузнике. Уличный народ в Новокузнецке отличался от ставропольского какой-то жесткостью, суровостью, невежливостью. И сам внешний вид города был серый, грязный ‒ от пыли и дыма работавших там заводов. Эта пыль заметным слоем покрывала бабушкин дом и листья деревьев в саду. Бабушка была рада моему приезду, и по такому случаю мы поехали на рынок, на котором она купила мясо. Видимо, у них это было не частое блюдо на столе. Она долго присматривалась и, наконец, купила, наверное, самое дешевое, которое уже было "на грани", что чувствовалось и по вкусу. То есть жили они бедновато.
Инвалид дядя Юра был известным на улице мастером бытовой техники, за работу брал "сколько дадут". Он часто слушал антисоветское китайское радио на русском языке, насмешливо комментируя его (это был период советско-китайской вражды, которая в 1969 году вылилась даже в боевые действия на амурском острове Даманский). Во дворе жил пес Боцман, который умел петь, то есть выть по заказу. Дядя Слава работал на заводе ферросплавов. Оба выпивали. Приходил их знакомый Огородников, умевший играть на семиструнной гитаре, и увлек этим меня, тогда я впервые взял ее в руки, став изучать азы по самоучителю. Кажется, первым музыкальным произведением было "Во саду ли, в огороде". На несколько дней мы ездили в деревню Околь на берегу реки Томь, где жил Порфирий Гаврилович, старый школьный учитель отца, вспоминавший, как мой отец на рыбалке упустил огромного тайменя (это сибирская речная рыба семейства лососёвых, достигающая 2 м длины и 80 кг веса). В наше время они в Томи уже не водились, но рыба была.
В Новокузнецке тогда гостил родственник с Украины, кажется студент, постарше меня лет на пять (видимо, бабушкин внучатый племянник?). С ним и с ее новокузнецким племянником Юрой Рузиным мы на лодке перебрались на покрытый деревьями живописный остров в реке, где рыбачили в протоке и ночевали в палатке, набитой сеном из обнаруженного на острове стога (его хозяин-шорец нас потом отругал за это). Мне там очень понравилось, и в следующие дни я сам вплавь, борясь с течением (оно относило метров на триста), добирался до этого острова, подолгу бродил в протоке и, видимо, после этого у меня развился ревматизм в коленях, обострившийся потом на севере и исчезнувший лишь во взрослом возрасте. (Этот остров остался в памяти сибирским "райским уголком". Но когда я в 1970-е годы снова побывал там, его уже не было: весь остров утилизировали на речную гальку для каких-то нужд... Было грустно видеть лишь голую отмель на его месте: строительство социализма было важнее природы.)
Упоминаю тут эту первую поездку в Сибирь (к моим сибирским корням) чисто хронологически как имевшую значение в моей биографии.
Странно, что вплоть до окончания техникума у нас в группе не было любовных отношений с нашими девочками. Если мы и влюблялись, то в посторонних, но не очень серьезно. В меня девочки (тоже не наши, за одним исключением) влюблялись раза четыре, но безответно, потому что я на последних курсах был платонически влюблен в Валентину Петровну. Одна из моих поклонниц по окончании учебы, видимо, это поняла и дала мне прочесть роман Голсуорси "Темный цветок", содержания которого уже не помню, но в чем-то там была параллель с моим душевным состоянием невозможной любви, и, возможно, отчасти с ее собственным... Сейчас я понимаю, что тогдашние мои критерии влюбленности или неприятия влюбленности были весьма неглубокими, внешними, и кое о чем в своем поведении могу жалеть...
Валентина Петровна на основе своих педагогических связей устраивала встречи нашей группы с иногородними сверстниками: был обмен поездками в гости с техникумом в Армавире (в их группе преобладали девочки) и один раз ездили в Ставропольский пединститут (тоже девочки), этой группой первокурсников там руководила сестра В.П. ‒ Тамара.
Наша группа КИП-11 (на каждом следующем курсе соответственно 21, 31, 41) считалась в техникуме образцовой и в учебе, и в спорте, и в художественной самодеятельности. Нас несколько раз премировали поездкой в горы в Домбай (альпинистская поляна на высоте около 1600 метров), где мы зимой катались на лыжах (спускались с высоких склонов на обычных, плохо управляемых беговых лыжах, тогда горные лыжи были нам незнакомы). Однажды осенью решили забраться на снежную вершину, и четверо из нас, наиболее упорных, без всякого снаряжения добрались почти до снега.
На смотр художественной самодеятельности нашей группы в техникуме собирался полный зал (в том числе приходили профессиональные работники дома культуры, где была театральная труппа). У нас была полноценная "классическая" программа с хором, девичьим хороводом, песнями и стихами. Наиболее примечательными номерами с моим участием были юмористические сценки типа КВНа с декламацией детских басен Чуковского: "Муха-Цокотуха" и "Тараканище" (я играл соответственно комарика и воробья). Помимо этого, был инструментальный ансамбль и вокальный квартет. В апреле 1966 года мы удостоились приглашения в Пятигорск на телевидение и, вернувшись в тот же день, принимали поздравления от всех насельников нашего общежития, которые смотрели телепередачу в "красном уголке" в прямом эфире.

На телевидении в Пятигорске: "Голуба" (Шишленко), "Джон" (Давыденко), я, "Дон" (Зайцев), Строкань, поет Володя Сурин.
В те годы новым моим увлечением стала гитара, мы создали группу в подражание "идеологически чуждым" "Битлз", играли на техникумовских вечерах. Нашим ведущим был "посторонний" (не студент) друг-пианист Валера Шишленко, мать которого была директором музыкальной школы. (Кличка у него была "Голуба", но не в современном гомосексуальном значении, мы тогда об этом никакого представления не имели, а как производное от обращения "голубчик" в одной из театральных миниатюр с его участием.) Звукосниматели для гитар мастерили из телефонных наушников, сами собирали громоздкие ламповые усилители. И музыкальную грамоту постигали самоучками, специальной литературы по шестиструнной гитаре у нас тоже не было (в России традиционной была семиструнка), пальцевые аккорды на грифе приходилось строить опытным путем. Меня приняли ритм-гитаристом в оркестр небольшого Дома культуры им Горького, который играл вечерами на танцах, и, освоившись, я мог бы подрабатывать, но Валентина Петровна отнеслась к моей попытке неодобрительно, я подчинился.
Понятно, что такие вечерние "танцы" в то время были общественно принятой формой знакомства мужчин и женщин, и обе стороны сознательно шли именно на это, а не ради танцев ‒ топтания на месте с полуобнимку. Мы тоже порою ходили на танцы в Дом культуры химиков. И в техникуме, как я уже упоминал, иногда случались "танцы". (Сейчас их заменили дискотеки и ночные клубы, где совсем иная атмосфера ‒ во время современного "танца" нет возможности поговорить с партнером, почувствовать его как личность. В эмиграции мне редко доводилось бывать в таких местах, обычно в компании по каким-то поводам, и это мне совсем не нравилось также из-за оглушающей музыки.)
От увлечения музыкальной грамотой осталось в памяти прикосновение к звуковой гармонии мiра, таившей в себе сложную стройность, которую человек не создавал сам, а открывал как изначальную, дочеловеческую, в существовавшем мiре. Или это не так? Почему эта гармония у некоторых народов своя, например, у арабов и китайцев она явно другая, которая для нас слышится как диссонанс, а они считают его музыкой? Может быть, это отражает их какую-то общую неправильность, отсталость? И с этой точки зрения, что такое джаз ‒ намеренное внесение хаоса в гармонию, которая в лучшем случае ставит какие-то не слишком строгие границы этому хаосу? Так сущность гармонии и осталась для меня тайной, потому что классической музыкой я не увлекался и остался неграмотен в этой сфере.
Подобную таинственную стройность мiроздания я ощущал и в законах физики, и в математике, отчасти в химии ‒ все они раскрывали идеальное, то есть нематериальное, строение материи (таблица Менделеева), давали ощущение будоражащей тайны в ее безконечных глубинах. Однако все прикладные технические науки (КИПиА, сопромат, технология металлов, технологические процессы и др.) были мне не интересны, я их изучал лишь по инерции вместе со всеми.
В виде иллюстрации приведу мое впечатление от завода "Красный металлист", где в то время работали мои родители (мама конструктором, отец ‒ главным механиком литейного цеха), куда я летом 1966 года попросился из техникума на положенную полугодовую практику. Это отрывок из написанного позже художественного рассказа, каким этот цех увидел мой воображаемый герой Сеня Карлов:
«На полугодовую практику он попал на тот самый завод с кирпичной трубой, который изнутри выглядел как символический монумент человеческого труда. Для новичка литейный цех с вагранками казался монстром в металлических джунглях, в которых, однако, угадывался сложный порядок: добытые из земли металлы, отлитые и откованные в геометрические конструкции, были разделены на массу круглых, продолговатых, плоских, кубических частей, слагавшихся в разные агрегаты, двигавшиеся и существовавшие во взаимной гармонии с назначенными им целями. И всем этим правильным соотношением рассчитанных размеров, форм, сочленений управляло изнутри математическое число, которое заложено в самом строении природы, но инженеры его извлекли и поставили себе на службу. Завод, может, не так уж и нужен человечеству, но инженерам точно нужен, иначе для чего их профессия? Число там господствует в чертежах, по которым собраны машины, движется по проводам, вращает роторы, плавит сталь своей энергией, оно куется паровыми молотами и его измеряют автоматические приборы в виде веса, длины, температуры, давления, скорости. Было бы интересно исследовать внутренний родословный смысл всей металлической промышленности, но Сеня уже никогда не возвращался к техникумовской профессии. Его больше интересовало не внутреннее устройство мира, а пространственное, отображенное на картах...»
Впрочем, основные конструкции и оборудование на заводе были еще дореволюционными, усталость старого металла часто приводила к авариям, из-за которых отец, бывало, по нескольку дней не возвращался домой, ночуя в цеху. Не лучше было и с прочим оборудованием: мы, электрики, перебирали обгоревшие пускатели, собирая из пригодных деталей старых блоков пригодные работоспособные...
Трудиться, нам, студентам, приходилось на всех четырех курсах. Это и упомянутое строительство спортзала, и каждую осень месяц-полтора на сборе винограда в разных предгорных районах, где нужно было выполнять норму в течение полного рабочего дня. Первые дни все объедались виноградом до расстройства желудка, и потом больше "смотреть на него не могли". Еду нам привозили на лошадях из колхозной кухни, раздавали в металлическую посуду, и ели мы прямо на винограднике, сидя на земле. Особенно тяжело было в дождливое время, когда мы простужались, но все равно приходилось работать.
Гораздо приятнее были летние трудовые лагеря на Черном море в бухте Псоу (сейчас это граница с Абхазией). Жили в палатках, последний раз в деревянных домиках из горбыля. Полдня мы работали в совхозе на прополке, уборке овощей и сена, пару раз пришлось поехать грузчиками тухлой рыбы с рыбзавода, предназначенной для корма свиньям ‒ ужасный был запах!

На полевых работах в совхозе, снизу вверх: "Вальдемар" (Федотов), "Кеша" (Никитов), "Видметь". Слева "Комар" (Комаров), справа "Пацан" (Земсков).
Вторая половина дня была отдыхом на пляже, игрой в футбол, вечером ‒ "танцы" в поселковом клубе. В выходные дни самостоятельно ездили в Сочи, Адлер, в Гагры. (В 2007 году мы с Надей ездили в Невинномысск на 40-летие выпуска и заодно на неделю в Абхазию, на один день остановились в бухте Псоу, где место нашего техникумовского лагеря я нашел с трудом: на месте клуба были развалины, вся территория была застроена частными домами...)
На последнем курсе я почувствовал, что техническая профессия ‒ это совсем не моё, меня всё больше интересовал смысл жизни, смысл мiра ‒ для чего мы родились в нем? Большое влияние на меня произвела встреча с Виктором Шарковым, студентом МИФИ, который поехал с нами в лагерь на море и дал мне импульс стремления к познанию, мне с этого времени стало казаться, что для меня ничего невозможного нет, нужно только захотеть. (В интернете я недавно узнал, что Шарков стал известным ученым-оригиналом, поборником альтернативных технологий, но связаться с ним в Москве не удалось.)

Бухта Псоу: Евдокимов, Удодов, я, Ира Тарнопольская, Шарков, Попов, Давыденко, Марахов, Федотов.
В это время меня стали раздражать строгие порядки в общежитии, где комендантша запрещала нам вешать над кроватями фотографии наших кумиров ‒ в моем случае "Биттлс" и чемпионов-гимнастов. Когда мы были на занятиях, она устраивала рейды по комнатам (в каждой было пять кроватей по периметру) и срывала картинки. (В одной из комнат ребята повесили плакат "Моральный кодекс строителя коммунизма", который при его открытии обнаруживал Джину Лоллобриджиду в пеньюаре, думаю, что в этот "Моральный кодекс" наша борица за нравственность не заглядывала и потому хвалила эту комнату как пример всем.) В отместку комендантше я глупо, в подпитии, разбил гирей стенку из стеклоблоков на нашем этаже ‒ кто-то донес, и мне грозило отчисление, но Валентина Петровна всё как-то уладила. Правда, и в моей выпускной характеристике, в основном положительной, она честно написала: "Отличается строптивостью характера".
В последний семестр я совсем забросил учебу в техникуме и с трудом, благодаря зрительной памяти, сдал последние экзамены по техническим предметам (хуже всего по теплотехнике: получил тройку; к сожалению, вкладыш к моему диплому с оценками утерян). Я тогда уделял основное время экзаменам по получению экстерном аттестата в Ставрополе, с которым надеялся поступить в дневной гуманитарный институт без необходимости отрабатывать три года на производстве, что полагалось после техникума. Школьный аттестат получил идеальный (но экстернам золотая медаль не полагалась, о чем мне с сожалением сообщил директор той ставропольской школы).

Наш выпускной банкет был устроен в начале июня 1967 года в кафэ-стекляшке на улице Менделеева. Это был прощальный акт окончания прежнего нашего техникумовского мiра ‒ вот его неожиданно больше нет, впереди заманчивый безбрежный океан взрослой жизни. Валентина Петровна, как бывший капитан с чувством выполненного долга, там же провожала нас в этот самостоятельный путь... Так мы через окна стекляшки шагнули в новое измерение свободы, некоторые наши мальчики и девочки взглянули друг на друга уже иными глазами...
После того, как по окончании техникума наша группа разъехалась, кто домой, ждать призыва в армию, кто по распределению в Среднюю Азию и Прибалтику (девочки), стало зарождаться ностальгическое чувство по нашей недавней дружной общности.
Очень запомнились проводы "Пацана" (Гены Земскова) в армию, которые его родители устроили неподалеку от Невинки в поселке СПТУ (училище механизации). Это был грандиозный пир во дворе, под сооруженными брезентовыми навесами ‒ человек на 50. Ели и пили полтора дня, отвлекаясь лишь на сон и ловлю раков в пруду... В ноябре того же года мы с "Петрухой" решили навестить "Пацана" в Ереване, где он проходил обучение в школе сержантов. Летели туда на самолете, город оказался красивым, во многих зданиях были заметны округлые армянские национальные "гены", и было еще тепло. "Пацан" проходил учебу на отдельном курсе связистов, где контроля начальства было меньше, поэтому нас через дыру в заборе провели в казарму и для маскировки одели в военную форму, мы сутки вместе со всеми там спали, ходили в столовую, а вечером маршировали на плацу ‒ это называлось "вечерняя прогулка", когда взвод, строем шагая в ногу, орет свою песню, одновременно другие взводы ‒ свои песни, и в целом получается какофония.

Петруха и Видметь в Ереване
Связь в переписке мы со многими в последующие годы не теряли, а с местными регулярно встречались. Например, когда летом 1970 года "Пацан" вернулся из армии, а я вернулся с Челюскина, мы решили с ним без предупреждения поехать к "Дону" в Благодарное (он тоже тогда демобилизовался). Дома его не оказалось, прождали полдня, пока он не появился, весь обремененный житейскими заботами, зато хотя бы повидались и в тот же день вернулись в Ставрополь на кукурузнике.
Ни со школьными друзьями в Ставрополе, ни позже с однокашниками московского института (за исключением нашей антисоветской группы) у меня такого чувства общности не было.
Техникумовское время дало нам нравственно много важного. Это был возраст становления в нас неписаных нравственных ценностей, независимых от официальной идеологии (которая на них паразитировала), ‒ видимо, поэтому наша юношеская дружба сохранилась до сих пор, хотя профессии в жизни у многих из нас стали другими. Мы, по возможности, собираемся на юбилейные даты в Невинке и вспоминаем былое, как бы включая машину времени.
Вспоминая образное сравнение директора Затуливетрова с форточкой и окном знаний, скажу свое мнение о "лучшем в мiре советском образовании", каким его до сих пор считают многие в нашей стране. И не без оснований. Уже в техникуме, судя по обширному перечню изучавшихся предметов, профессиональные знания в естественных науках и в технике давались всесторонние. Чтобы дать представление об их объеме размещаю вкладыш к диплому Юры Зайцева (мой, к сожалению, утерян).

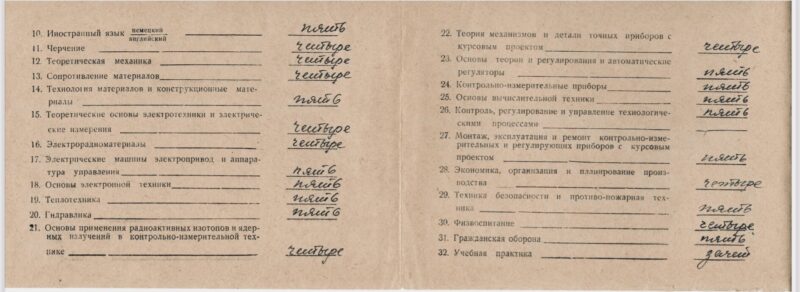
При их должном усвоении студентами, заинтересованными в этой жизненной профессии, они открывали "окно" в практическое и научное освоение материального мiра на пользу своему народу. Такие "технари", увлеченно и досконально познавшие предмет своего дела, неразрывно срослись с ним, видели в нем суть своей жизни, были ходячими энциклопедиями и носителями огромного созидательного опыта, ‒ сужу по своим родителям.
Такими высококлассными специалистами стали и некоторые из нашей группы, окончившие затем технические институты и достигшие высоких должностей, например, Валера Удодов, который еще в техникуме призывал "грызть гранит" технических наук, стал главным энергетиком "Внештрейдинвеста", в последнее время до пенсии был начальником бюро по подготовке персонала ОАО "Еврохим".
Андрей Калмыков стал начальником крупного цеха на Невинномыском химкомбинате, где каждый цех по размерам соответствует целому заводу и далеко не каждый начальник имеет способности к руководству такого масштаба.
Гена Земсков стал начальником цеха на Волгоградской ТЭЦ-3.
Толик Ростовцев работал ведущим инженером-инспектором МУП Теплосеть г. Ставрополя.
Юра Зайцев ‒ главным инженером в «Благодарныймежрайгазе»; заместителем главного инженера по охране труда в «Газпром добыча Ноябрьск»; затем там же председателем Объединённой профсоюзной организации (примерно 3 500 членов профсоюза).
(можно пополнить список?)
Предполагаю, что до немалых высот в научно-технической области могли подняться целеустремленные еще в техникуме Толик Комаров, Игорь Осипов, Володя Жабин.
Но для этого нужно было еще иметь именно такое жизненное призвание, без которого в человечестве не было бы выдающихся ученых-естественников и конструкторов. У меня такого призвания изначально не было, в естественных науках я видел лишь отблеск тайны о мiре, которую советское техническое образование не открывало, а в гуманитарных науках тупо ее фальсифицировало религией марксизма-ленинизма, и тем самым советское образование было худшим в мiре. Поэтому для меня в искомой области знаний и техникум и даже московский элитарный гуманитарный институт оставались форточками во всё еще остававшийся таинственным смысл жизни, который ощущался, его не могло не быть, но пришлось познавать его в совсем другой системе образования, открывшейся мне в эмиграции (об этом я уже написал в отдельной статье: "Опыт философской автобиографии"). И по возвращении в Россию мне было приятно, что такие мои техникумовские друзья, как Юра Зайцев и Андрей Калмыков, оказались в этой области понимающими единоверцами, которым пригодились мои книги.
Данные записи я сейчас предназначаю для своих детей и ограничиваюсь штрихами только из своей биографии. Надеюсь, кто-то другой сможет подробнее описать КИП-41-67 как уникальное явление в истории НХМТ. (Быть может, это сделает Ира Тарнопольская, тоже ставшая православной в эмиграции, в Японии, и ее побудит к этому ее ностальгия?)
Ниже ‒ выпускное фото нашей группы.

Как я строил социализм
Поступить в московский иняз с аттестатом, полученным экстерном, не удалось, хотя сдал вступительные экзамены на все четверки и набрал проходной балл (возможно, не приняли из-за указания в автобиографии на окончание техникума, что означало и необходимость отработать три года). Попробовал с этими баллами подать документы в Пятигорский иняз, но тоже отказали. Пришлось срочно сдавать совсем другие экзамены в Ставропольский филиал Краснодарского политехнического, на заочное обучение (чтобы получить отсрочку от призыва в армию, которая как раз в 1967 году была распространена и на заочников).
Вернусь к своей короткой производственной биографии, которая была не самой важной частью моей жизни, хотя и дала полезный опыт, который пригодился, в том числе в переводческой работе. Началась моя трудовая деятельность на месячной монтажной практике в 9-м цеху Невинномысского химкомбината, где я с удивлением встретился с вопиющей безхозяйственностью, расточительностью материалов и халтурой ‒ всё это было обыденностью в бригаде монтажников, куда меня определили. В морозную погоду в строящихся бетонных коробках цеховых помещений и переходов мы протягивали провода измерительных приборов сквозь трубы, кое-где при этом повреждалась изоляция, и вместо того, чтобы вытащить пучок проводов и всё сделать заново, монтажники сначала стучали молотком по изгибам труб в предполагаемых местах замыкания в надежде, что там что-то исправится.
На четвертом курсе моя производственная деятельность продолжилась в литейном цехе "Красного металлиста", о чем я уже упомянул, там я получил первую зарплату и трудовую книжку. По окончании техникума получил распределение в литовскую Ионаву, но не поехал, а остался в Невинке, где еще оставалось несколько наших, и стал работать на химкомбинате в цехе 1А с немецким оборудованием, хотя это мне совсем не нравилось.
Замечу в виде справки, что, в отличие от "несправедливого капиталистического мiра с его эксплуатацией и безработицей", в СССР безработицы не было. В советской Конституции 1936 года провозглашалось (ст. 12): «Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу "кто не работает, тот не ест"». Цитата была взята из Нового Завета (Второе послание апостола Павла фессалоникийцам), но переосмыслена в административно-принудительном значении [*]. В 1951 году появился указ «О мерах борьбы с антиобщественными, паразитическими элементами», предписывавший отправлять бродяг, попрошаек и тунеядцев на поселение в отдалённые районы. В следующие несколько лет под действие этого указа попали около полумиллиона человек.

В 1961 году "апостольский" трудовой принцип вошел в "Моральный Кодекс строителя коммунизма" (пункт 2): «Добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест». В том же году был издан указ «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни». В Уголовном кодексе появилось наказание за тунеядство (ст. 209). Тех, кто своё конституционное право трудиться не ценил и не работал более четырех месяцев, ждали неприятные последствия: он объявлялся "тунеядцем" и "паразитом". «Лица, уклоняющиеся от общественно полезного труда и ведущие антиобщественный паразитический образ жизни... подвергаются по постановлению районного (городского) народного суда выселению в специально отведённые местности на срок от 2 до 5 лет с привлечением к труду по месту поселения»; имущество осужденного при этом могли конфисковать как нажитое «нечестным путем». Обвиненных в тунеядстве называли людьми без определенного рода занятий, сокращенно БОРЗ, ‒ отсюда слово "борзый" приобрело значение наглеца, не подчиняющегося социалистическим общественным нормам. Исключение составляли женщины, воспитывающие маленьких детей, и узаконенные лица творческих профессий (это было одной из причин того, что писатели, художники, композиторы стремились попасть в члены соответствующих Союзов).
[*]Примечание. Поясню также, какой смысл вкладывал в свои слова апостол Павел. Некоторые новообращенные христиане, услышав что скоро будет Второе пришествие Христа, бросили работу и заботы о пропитании семей. К таким людям Павел и обратился: «Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас, ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам; ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас, ‒ не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб» (2 Фес.2, 3:6-12).

В цеху 1А
Быстро оказалось, что мои техникумовские знания на практике едва тянули на 3-й разряд рядового киповца, и цеховой начальник КИПа стал меня усиленно наставлять в практической работе, в основном это было связано с пневматическими системами (чему в техникуме нас учили мало, в отличие от электрической части). Вскоре, стал работать дежурным киповцем в том числе в ночные смены, где работы было мало, только при устранении редких неисправностей, можно было много читать, писать письма, но мой старший коллега Шабунин, тоже выпускник НХМТ, про это "безделье" мудро говорил: "Киповцу платят не за то, что он делает, а за то, что он может сделать". Это правило, разумеется, применимо и ко многим другим квалифицированным профессиям, в которых, на первый взгляд, люди "бездельничают" на зарплате.
Ночные смены продолжительностью, если не ошибаюсь, в две недели выбивали из биологического ритма, возвращение в него было неприятной ломкой и занимало пару дней.
В том году меня, до сих пор единственный раз в жизни, сильно избили вечером у нашего кинотеатра, где я, геройствуя, заступился за незнакомую девушку, которой какой-то наглый мерзавец, просто проходя мимо, харкнул в лицо. Я ему спонтанно нанес удар, он убежал, но через четверть часа вернулся с корешами. Они меня повалили и били ногами, пока старший не сказал: "Ну хватит, ему уже достаточно". На следующий день мое лицо выглядело как сплошной синяк с красными, как редиска, глазами. На работе я сказал, что на баскетбольной тренировке налетел лицом на стену в спортзале.
В это время я предпринял свои первые литературно-стихотворные опыты в подражание торжественным одам конца XVIII века, правда, сатирические ‒ в отношении коллег по работе. Писал эти стихи на киповских приборных рулонах, зачитывал при всем коллективе в ЦПУ и дарил упоминаемым персонажам.
Мы с Геной Максименко ("Петрухой"), работавшим на том же комбинате, решили уйти из рабочего общежития, где атмосфера уже сильно отличалась от студенческой, и сняли комнату у пожилой женщины, спали на одной широкой супружеской кровати. Стали налаживать связи со всеми нашими, кто куда разъехался. С поощрения Валентины Петровны выпустили обзорную стенгазету КИП-47-67 ‒ кто где работает или служит ‒ для ежегодного вечера механиков в техникуме (киповцев относили к механикам, были также вечера технологов). И участие в концерте уже в измененном составе ансамбля приняли.
Наконец, мы с Геной вернулись к родителям в любимый Ставрополь и стали работать на заводе люминофоров. Там уже было привычнее иметь дело не с киповским "воздухом" в шлангах и трубках для пневматического регулирования химических процессов, а с электронами, движущимися в проводах для регулировки температуры в печах. Опять-таки работа была посменная, ночами было много времени для чтения. Читал я всё, что привлекало мое внимание, методом тыка.
Я уже писал, что у меня тогда возник острый настрой поиска смысла жизни, но не знал, где его искать, и ждал какого-то просветления, которого стремился достичь в чтении, походах в горы и вообще в природу с ночевками в палатке. Много читал без определенной программы, большое впечатление осталось от "Мартина Идена", и я подобно герою этого романа стал усиленно заниматься самообразованием.
В это время мы с Геной должны были готовиться к первым сессионным экзаменам в политехе, и я впервые внимательно прочел предписанный программой учебник по коммунистической идеологии, которая поначалу и впервые показалась мне правильной, глубокой и даже благородной ‒ вот он, смысл жизни. Такое же впечатление было у Гены. Однако у нас было и одинаковое ощущение сожаления, что люди не относятся к этому серьезно, даже сами местные коммунистические активисты, поэтому коммунистическая идея счастливого будущего остается лишь несбыточной сказкой.
Упустил тогда случай "разбогатеть": в нашем цеху постоянно сгорали термопары, и их щедро списывали без дальнейшего учета утилизации. А сделаны они были из двух проволочек: платиновой и платинородиевой (нынешняя цена такой платиновой проволоки в интернете ‒ 1500 руб. за грамм, а родий в 15 раз дороже). Скомканные остатки этой драгоценной проволоки в одном клубке мы держали на столе в киповской дежурной комнате, куда мог зайти каждый. И однажды этот уже почти полукилограммовый драгоценный клубок просто исчез: кто-то всё же нашелся, способный его оценить.
Гитарист Валентин Прозоров, именно он увлек нас шестиструнной гитарой в техникуме, пригласил меня в создаваемый им в Ставрополе ансамбль того же "битлового" формата. Я успел один раз участвовать в концерте в здании проектного института на площади Ленина, один раз играл на вечере в Торговом техникуме в районе Верхнего рынка, причем там при выгрузке аппаратуры я повредил свой ламповый усилитель, и мое участие в общем звучании нашей группы было жалким дребезжанием. Тем не менее: "На, держи заработанное!" ‒ вручил мне Валёк с насмешкой мои 10 рублей... (Он был талантливый гитарист, одержимый этой профессией, но много пил, интересна его дальнейшая музыкальная судьба...)
Благодаря Гене у нас тогда сложилась небольшая дружеская компания с Ирой Б. и ее сводной сестрой Наташей, которая предложила, чтобы каждый из нас следил за определенной информацией (политической, научной, культурной) и периодически делал об этом сообщения в нашем кругу. Хорошая идея не осуществилась, так как я вскоре уехал на Диксон.
В Ставрополе я тогда проработал всего четыре месяца. Стало скучно и безперспективно. Решил отправиться за смыслом жизни в Арктику (отчасти под впечатлением рассказов Джека Лондона). Подал заявление об увольнении, но руководство люминофоровского КИПа решило меня задержать с помощью военкомата: за мной на работу (завод находился за городской чертой) приехала машина, меня взяли прямо в спецовке, привезли в центр города к майору Лысенко, который наорал на меня, пригрозил призывом в армию (хотя я как студент-заочник имел право на отсрочку) и выставил на улицу. Не имея с собой денег для троллейбуса, добирался до завода зайцем.
Затем я пошел в горком то ли комсомола, то ли партии (на просп. Карла Маркса) с просьбой "выписать мне комсомольскую путевку" на Север. Надо мной там посмеялись. Решил ехать сам, невзирая на угрозы майора Лысенко.
Сейчас я никого из своих детей не отпустил бы в такую авантюру, да и в уголовный Невинномысск в 14-летнем возрасте. Но мои родители не ограничивали моей самостоятельности в выборе решений. На ставропольском вокзале меня провожали в Москву мама и Ира Б., дружившая с Геной. До отхода поезда еще оставалось время, но мама попрощалась, ей нужно было вернуться на работу. Ира, "оранжерейный" ребенок в элитной семье, окруженный родительской заботой, сказала: "Хочу такую маму"...
«В купе собачий холод и председатель Ставропольского райпотрбесоюза (фамилия)», ‒ так начинался мой тогдашний северный дневник, к сожалению, пропавший потом в Алжире...
Северный период своей трудовой деятельности я выделю в отдельную главку, так как он дал мне особый опыт.
-

М.В. Назаров - Администраторы
- Сообщения: 7247
- Зарегистрирован: Вс окт 01, 2006 7:54 pm
- Откуда: Москва
Re: Ваша биография
5. АРКТИКА
Работа в Арктике ‒ это следующее примечательное "произведение", созданное мною в моей жизненной летописи. Хотя это длилось всего два года, но без них теперь всё ощущалось бы как-то "не так", и я был бы "не я"...
Я правильно сделал, что поторопился, так как прибыл на Диксон за два дня до закрытия советских северных границ: с 1 января 1969 года туда стало возможно попасть только местным жителям со штампом в паспорте или по специальному разрешению.
Тогда в Ставрополе я наметил себе побывать в крайних точках советской территории, также на Памире и на острове Шикотан, но Север манил героической историей его исследования и романтикой труднодоступного края земли, где пространство и время, казалось, должны иметь иные качества. Эти ощущения и ожидания я уже описывал в философском опыте своей жизни, так что вернусь к северному производственному опыту.
Остров Диксон в СССР был известен благодаря песне:
«Поёт морзянка за стеной весёлым дискантом,
Крутом снега, хоть сотни вёрст исколеси,
Четвертый день пурга качается над Диксоном,
Но ты об этом лучше песню расспроси...»
Это скалистый остров (около 25 кв. км) в Северном Ледовитом океане при выходе Енисейской губы в Карское море в 1,5 км от материка, где расположен береговой поселок (73°30' с.ш. и 80°30' в.д.). На Диксоне никогда не было местного коренного населения, нет ни одного дерева, ни одного куста – это зона арктической пустыни. Зимой солнце не появляется над горизонтом два с половиной месяца: с 15 ноября по 1 февраля (столько же времени летом длится полярный день). Фактически то и другое состояние, ночи и ее отсутствия, длится дольше с учетом переходного времени. Самый теплый месяц ‒ август со средней температурой +5°С. Ближайшие ненцы-нганасаны живут на материке в тундре 200-300 км южнее, где уже есть пригодная растительность – корм для оленей.
Тем не менее в ХХ веке Диксон был столицей Русской Арктики: отсюда шло авиационное и морское снабжение полярных станций, ледовая авиаразведка по проводке судов сквозь льды Северного морского пути. Диксонский морской порт как самый северный в России и единственный в Карском море имел также значение для обезпечения маршрута вывоза из Дудинки енисейского леса и норильских металлов, как и для снабжения северных сибирских территорий в навигацию.
Остров был с начала XVII века известен русским поморам. Арктические исследователи официально "открыли" его в XVIII веке. Во время Великой Северной экспедиции в 1738 г. начальник её Обь-Енисейского отряда, штурман Федор Минин дал острову название Большой Северо-Восточный. Позже русские промышленники именовали его как остров Долгий, а также остров Кузькин (по легенде от имени морехода-промышленника Кузьмы).
В 1875 г. остров посетил шведский полярный исследователь Адольф Эрик Норденшельд на судне "Прёвен" и назвал врезающуюся в восточный берег бухту Гаванью Диксона, по имени шведского предпринимателя Оскара Диксона, финансировавшего эту экспедицию. Позже Норденшельд распространил название Диксон на остров. В 1894 г. начальник Российской гидрографической экспедиции А.И. Вилькицкий официально узаконил это название. (Норденшельд был также иностранным членом-корреспондентом Петербургской академии наук и почетным членом Русского географического общества.)
В 1915 г. на острове были созданы запасы угля для экспедиции морских судов "Таймыр" и "Вайгач", совершивших первое сквозное прохождение по Северному морскому пути с востока на запад под руководством Б.А. Вилькицкого. Для зимовья были собраны два жилых бревенчатых дома и баня, привезенные вместе с углем – из расчета на проживание 54 человек (часть из них размещалась на лихтере "Корреспондент"). 7 сентября 1915 г. на острове впервые в эфире прозвучали позывные одной из первых арктических радиостанций, этот день теперь считается днем основания Диксона. В 1916 г. Совет министров Российской Империи принял постановление о выделении средств на оборудование постоянной гидрометеорологической полярной станции на острове.
На Диксон я прилетел из Москвы с промежуточной посадкой в Амдерме в воскресенье 29 декабря 1968 года и первые дни провел в летной гостинице. Непривычна была сплошная ночь без солнца и медленные переливы зеленоватого шелка в небе ‒ знаменитое северное сияние, ‒ оказалось, что оно большей частью бывает спокойным и редко играет всеми цветами радуги. Вообще потом увидел на Севере много разных небесных эффектов: четыре луны по четырем сторонам небосвода, "солнце с ушами", то есть три солнца, одно из которых настоящее в центре триптиха, а два других по бокам ‒ ложные. Однажды весной в небе за пеленгатором изобразились расходящиеся веером лучи, как на сигаретной пачке "Север".
Я прибыл на Диксон сразу после облета американцами Луны ‒ это событие было воспринято мною как важное философское событие, прорыв в человеческой истории. Я долго смотрел на Луну в сияющем по этому случаю небе, представляя себе там космический корабль с людьми, и мурашки бежали по телу... Однако в центральных советских газетах об этом было лишь краткое сообщение на последних страницах, ‒ и это было для коммунизма саморазоблачительно: "они" скрывают от нас смысл мiроздания, остро ощутил я. Это стало поворотной точкой в появлении в СССР еще одного двадцатилетнего антисоветчика.
На следующий день меня принял "замполит" аэропорта Львов, который с удовольствием рассмотрел все мои документы, включая техникумовскую характеристику и спортивные грамоты, сказал, что в материковом поселке (через пролив) строится спортзал, где я смогу повышать свое гимнастическое мастерство, и определил меня электромехаником ночного старта, то есть для обслуживания электрооборудования взлетно-посадочной полосы. Меня разместили в общежитии и выдали полушубок 54-го размера (хотя у меня был 44-й, но других не было, и я потом ходил в нем на посмешище всем как пугало). В первый же день пришлось в "кошках" неумело залезать на столб у гостиницы и что-то наверху чинить.
К новому году началась пурга. Узнав о коллективной встрече нового года в Радиометцентре, я отправился туда по полученной устной инструкции, как туда пройти ‒ всего лишь метров 600, но в пургу это было непросто из-за отсутствия видимости, а когда я вошел в помещение с длинным праздничным столом, мне сразу указали на побелевшую щеку, которую пришлось оттирать. Незнакомца приняли радушно, усадив за стол. А возвращаясь в гостиницу, я прошел мимо нее, не заметив в пурге двухэтажного здания и выйдя за границу поселка к погранзаставе, но вовремя это осознал, иначе бы мог забрести далече.
Соседом в комнате позже оказался молодой выпускник Ульяновского авиаучилища Андрей Денисов, работавший диспетчером. Я любил по ночам (в выходные дни) бывать в его башне, слушать его командные указания пролетавшим бортам, в том числе военным, а потом мы шли в столовую, где дежурили сестры-красавицы для кормежки ночной смены аэропорта.
Благодаря Андрею я вошел в островную молодежную "элиту", в основном из РМЦ, где народу было больше, и уважаемым "королем" на острове был вездеходчик Володя Дерябин, курсировавший по льду через пролив, куда ездили в магазин. Однажды мы с Андреем, уже весной, рискнули пройти сами через пролив, покрывшийся разводьями, и чуть не оказались в ледовой ловушке.
Мы с Андреем создали ансамбль типа "Биттлз" и играли на танцах в клубе РМЦ, однажды дали концерт в клубе аэропорта. На нем в зале присутствовал матерый полярный летчик ‒ бортмеханик Александр, который похвалил нас и спел песню своего сочинения с вальсовым тактом 3/4, которая мне понравилась, я ее с одного раза запомнил и впоследствии не раз пел:
«Далеко от Москвы, далеко от земли
Не идут поезда, не плывут корабли.
Лишь случай порой залетит самолет,
А кругом только лед, только лед, только лед...»
И далее в песне говорится о письме, которое полярник пишет своей любимой, но не отправляет, надеясь вскоре привезти и прочесть лично...
Мы с Андреем оставили о себе память на острове, нарисовав для фасада клуба на фанерных щитах большие картины в плакатном духе "светлого будущего". Андрей быстро нарисовал Ленина, копируя его портрет по клеточкам, а я, что-то припоминая из Невинномысского химкомбината, изобразил силуэты промышленного пейзажа с домнами, линиями ЛЭП, башнями-градирнями и т.п., куда мы хулигански вмонтировали винную бутылку ‒ в то место, куда тянется опущенная вниз рука счастливого пролетария, воздевающего другую руку вверх. Замполит был очень доволен. (За такую "активную общественную работу" мне потом дали на Диксоне хорошую характеристику для поступления в московский институт.)
Центральным местом моей работы было помещение дизельной, где два огромных агрегата производили электрическую энергию для всего острова. Было нас там вместе с дизелистами человек пять, хорошие практики, умевшие разобрать дизельный двигатель до винтика и вновь собрать. Вскоре у нас появился Иванченко с Украины, признавшийся, что его "информированный кум" посоветовал переждать эти годы подальше от возможной атомной войны. Был он жадноват, груб и неприятен в поведении, начиная от красных глаз и до своих житейских поговорок, наглядно иллюстрируя собой соответствующие анекдоты "про хохлов и сало".
Работать приходилось не только в аэропорту, но и с электрооборудованием на аэропортовских объектах на всем острове, включая жилые дома. Это была обычная работа электрика, правда с изношенным оборудованием, которое постоянно отказывало в арктических условиях. Отмечу из нее два эпизода.
В зимнее время взлетно-посадочную полосу устраивали в восточной бухте на льду для приема большегрузных бортов. И однажды меня срочно вызвали: грузовой АН-22 шел на посадку, и именно в этот момент на полосе погасли огни, он едва смог набрать высоту. Нужно было срочно восстанавливать освещение. Два километра выложенного на лед и занесенного снегом кабеля туда и назад составляли четыре километра. Пришлось пройти их большую часть, разгребая снег, пока не обнаружил рассоединение. Выскочил я тогда на лед в полушубке, но в обычных брюках, и обморозил себе кое-что важное, но возможность потомства всё же сохранилась (свидетельство тому ‒ дети и семеро внуков, для которых пишу эти воспоминания). На подобную мою авральную работу не распространялись актированные дни, когда по закону при очень низкой температуре (не помню точно: 50 или 52 градуса) наружные работы прекращались. В тот день было примерно так.

Диксон, 1969 г. Ледовый аэродром в бухте.
Второй, более серьезный случай произошел в пургу, когда при видимости в 1-2 метра я шел к самолетной стоянке и был остановлен ярким светом в лицо перед работающими винтами, до которых оставалось метра два ‒ и мне бы снесло голову... Мне тогда спас жизнь тот самый бортмеханик Александр, прогревавший мотор своего Ли-2 и включивший свет.
В свободное от работы время я в основном читал, и однажды наше общежитие посетил какой-то важный человек (прилетевший из Москвы, видимо, для инспекции), он очень удивился, увидев на моей тумбочке книгу "История дипломатии", и спросил, зачем я это читаю. Я ответил, что готовлюсь к поступлению в МГИМО (Московский институт международных отношений), чем еще больше удивил его. Это была тогда, действительно, моя цель.
В апреле 1969 года меня решили взять в армию, на прощальном вечере замполит подарил электробритву (я ее потом продал на алжирском рынке, будучи в бегах). Новобранцев с Диксона было 11 человек, нас спецбортом привезли в Дудинку, оттуда поездом в Норильск, где мы десять дней упражнялись в стрельбе в спортзале. Потом всё же выяснили, что меня как студента-заочника призывать не положено, и отпустили.
Проживавший в Норильске друг Андрея Денисова пустил меня переночевать к себе в общежитие авиаторов, спали вдвоем на одной узкой кровати, и на следующий день он пристроил меня на попутный вертолет в Дудинку, откуда примерно раз в неделю летали борты на Диксон. Вертолет летел низко над тундрой, в которой меня поразили огромные стада диких оленей. Борт на Диксон пришлось там ждать еще пару дней.
Вернувшись "из армии", я пошел к замполиту с упреком: я же говорил, что имею право на отсрочку от призыва... Меня восстановили на прежней работе. Наступало "лето", и я полетел в Ставрополь для сдачи экзаменов за второй курс института. На обратном пути повидал белые ночи в Ленинграде, включив его в свой безплатный авиамаршрут. Ночевал у Антонины Александровны Клюи, старушки-инвалида, по рекомендации Дзарагазовых из Ставрополя...
На Севере вообще с соблюдением формальностей было проще: чтобы не ждать неделю регулярного рейса в Москву, я летел туда с Диксона на грузовом самолете (опять-таки летчиков попросил Андрей), на 21-летие в сентябре ребята подарили мне охотничье ружье без всякой регистрации. И мелкашку можно было брать "напрокат" без проблем, а массу патронов к ней я получил от мамы в посылке по обычной почте... (Такой коммунистический "тоталитаризм" по нынешним временам выглядит просто невероятным.) Отделы кадров снисходительно относились и к т.н. "северным бракам" своих сотрудников, выделяя сожителям совместное жилье... Неудивительно, что народ там чувствовал себя свободнее, тут же и охота, рыбалка, поэтому некоторые не ездили на материк десятилетиями: север затягивал своей вольностью, как когда-то южная степь ‒ казаков.
Диксонское лето было очень коротким, и когда я вернулся после сдачи экзаменов (перейдя на третий курс), мне выдали тот же самый прежний полушубок 54-го размера, уже изрядно грязный. Я возмутился, решил уволиться и лететь на Памир. Но не помню уже, кто посоветовал мне обратиться в РМЦ ‒ вроде бы наклевывалась работа на Земле Франца-Иосифа совсем близко к полюсу. Это было бы для меня огромной радостью, но пришлось довольствоваться мысом Челюскин с обещанием ЗФИ на будущее.
На Челюскин я летел на самолете того бортмеханика Александра, он по-отечески покачал головой: мол, куда и зачем тебя несет, экзальтированный романтический юноша...

Полярная станция на мысе Челюскин
Мыс Челюскин
Экзальтация и в самом деле была: ведь это был край земли! ‒ самая северная точка материковой суши на планете (77°43' с. ш. и 104°18' в. д.). Полярная ночь там продолжается с 29 октября по 14 февраля, лета практически не бывает: средняя "летняя" температура минусовая: для июля −0,1°C, для августа −0,9°C.
Мыс Челюскин был открыт 7 мая 1742 года штурманом Семеном Ивановичем Челюскиным, который добрался туда на собачьих упряжках (там фамилию его открывателя используют в названии мыса именно так, в именительном, а не родительном падеже, и ударение почему-то часто ставят на первый слог).
Если уже Диксон был основан на необитаемом острове арктической пустыни, которая оттаивала лишь на пару месяцев в году, то что уж говорить о Челюскине: наша станция с экипажем в 40 человек была подобна космическому кораблю, полностью зависевшему от снабжения с материка, причем даже в летнюю навигацию судам не всегда удавалось туда пробиться, так как пролив Вилькицкого не всегда освобождался от льда.
Нахождение на краю земли придавало нового воодушевления (позже я бы сказал: пограничного экзистенциального ощущения). Но первый день начался с грязной авральной работы: сгорела котельная в самом большом жилом доме Радиометцентра. Вернувшись в общежитие, я обнаружил, что из моих вещей пропали (были употреблены внутрь не по назначению) спиртосодержащие предметы ‒ одеколон для бритья и лосьон от прыщей ‒ таков был обычай полярной станции для приезжих, где вообще был сухой закон и спиртное можно было получить только по особым случаям: в день рождения или как награду за совершенный "подвиг".
Таких случаев мне как электромеханику за эту зимовку 1969‒1970 представилось раз пять к радости и других наших челюскинцев. Дело в том, что удивительным образом, советские проектировщики станции проявили большую некомпетентность в ее электроснабжении. На станции расположены чуткие научные измерительные приборы, а их работу своим электромагнитным излучением нарушают и передающие антенны, и работающие дизеля ‒ это обычный источник электронергии в малых северных поселениях (в том числе на о. Диксон). Поэтому дизельная станция там вынесена на четыре километра южнее, вместе с передающими антеннами. Эта пара строений называлась Передающей. Ходить туда со станции предписывалось с заряженным карабином ‒ на случай обороны от медведя (но мне не разу не попался).
Передающую соединяла со станцией воздушная проводная линия на деревянных столбах с керамическими изоляторами, на которые провода были уложены без креплений. Провода многожильные скрученные, в местах их опоры на изоляторы они со временем перетирались и обрывались. Происходило это от сильного ветра во время пурги. При прерывании электроснабжения от Передающей в береговом поселке, во избежание его замерзания, временно включались местные дизеля, что было неприемлемо с точки зрения научных измерений. Нужно было срочно искать и восстанавливать обрыв.
Пурга на Челюскине случалась очень часто. Температура ‒ минус 35, ветер 35 м/сек., страшный рёв воздуха, видимость не более метра... На двух вездеходах очень медленно едем "на ощупь" вдоль четырехкилометровой линии, находим место обрыва. Я затаскиваю концы оборванного провода в теплый вездеход и прикрепляю зажимами кусок такого же провода и трос к каждому концу, лезу с первым в кошках на 4-метровый столб, перекидываю трос через изолятор и даю вниз команду натягивать. Моя команда в течение 3-5 секунд передается по цепочке из 5-8 человек водителю вездехода, который очень-очень медленно начинает натягивать трос, пока место обрыва не коснется изолятора. Вверху я оцениваю скорость натяжения и заблаговременно даю сигнал об остановке. Затем аналогичные действия повторяются со вторым оборванным проводом с добавленным у нему внахлест куском, который я точно также наверху перекидываю через изолятор и он вторым вездеходом натягивается в противоположную сторону точно до стыкового положения обрыва с первым концом. После этого начинаю двумя новыми зажимами скреплять накладной кусок провода с оборванными концами. Наверху приходится это делать уже голыми пальцами, чтобы удерживать непослушные гайки, выдерживаю на морозе лишь секунд 20, пальцы прилипают к металлу, приходится их периодически отогревать в рукавице, что тоже происходит не быстро. Лишь после наживления гаек в несколько оборотов их можно затягивать ключом ‒ причем все их надо затянуть, что было силы. Скрепив концы, снимаю оба зажима с натяжных тросов. Всего эта операция вместе с поиском обрыва могла занимать до 5 часов, а однажды не помогло, так как был второй обрыв на линии и всё пришлось повторять с начала... Это был мой главный "подвиг" в Арктике.
Если представить себе (как я это там делал), что существует Верховный Наблюдатель за человечеством, Он, глядя сверху на эту кучку бородатых людей, командуемых самым младшим из них почти юнцом, глядя, как они, едва удерживаясь на ногах в стремительном снежном потоке в окружающей кромешной тьме, стараются соединить два длинных куска металла, чтобы по ним побежали миллиарды электронов, согревающих и защищающих жалкие человеческие домишки от всепронзающей стужи, ‒ что подумал бы о них этот Наблюдатель? Наверное: и что это занесло их сюда, на безжизненный край земли? Что им не живется у теплых морей, где колосятся бананы с мандаринами, в дубовых бочках плещется благородное вино, которое разносят в кувшинах стройные красавицы? Или хотя бы на тех благодатных средних широтах, где на земле есть растительность, от которой можно питаться?
Мы, люди, посмотреть на себя так не способны, однако можем удивляться тому, для чего на эту северную землю, едва освобождающуюся от снега на месяц в году, зачем-то упорно заползает жизнь в виде мхов и лишайников, терпящих годовую ледяную тюрьму, чтобы ожить на короткий миг ‒ для кого? Не говоря уже о птицах, специально прилетающих с югов гнездиться на мрачных скалах Ледовитого океана и выхаживать тут птенцов, которые, едва окрепнув, улетают с родителями на юг и опять-таки зачем-то будут ежегодно за многие тысячи километров возвращаться в эту ледяную родину?..
А после совершения "подвига" все его участники (человек 15, желающих всегда было много) получают в кают-кампании пусть и не благородное южное вино, но более концентрированную жидкость ‒ заслуженное спиртовое вознаграждение. Спирт мы пьем разведенным с водой, отчего он нагревается и становится неприятным. Если же пить неразбавленный, то обжигается слизистая оболочка рта и потом она слезает лоскутами...
Другой мой "подвиг" был на Передающей, уже "интеллектуальный". Он состоял в том, что, не будучи дизелистом, я разобрался в электрической схеме остановившегося мощного дизельного агрегата и смог его привести в рабочее состояние. Аппаратура к нему занимала несколько шкафов и стеллажей, электрическая схема была размером с простыню и, кажется, не одну. Потратил четыре часа, а причина была не в дизеле, а всего лишь в перегоревшем предохранителе одного из пускателей, но разобраться в этом мне удалось лишь методом прозванивания всех проводных соединений в поисках разрыва в общей схеме. Чему-то все-таки в техникуме и на "Красном металлисте" научили... В это время дизелист в ожидании устранения неисправности в подсобной комнате играл с крупными лохматыми щенками и их матерью ‒ им предстояло вырасти в собачью упряжку, а непригодным ‒ послужить материалом для унтов и меховых шапок, пояснил он (такое отношение к собакам меня коробило, но там это было нормой).
Поскольку я был единственным электриком на станции, начальник Николай Дмитриевич Тюков категорически не отпускал меня с нее, несмотря на мои "исследовательские" просьбы. Об этом я до сих пор очень сожалею, так была возможность побывать с гидрологами прямо на Северном полюсе, съездить на вездеходе на станцию Солнечная на Северную землю через пролив Вилькицкого (ее огонек был виден с нашего берега), посетить законсервированный сталинский концлагерь примерно в 100 км к югу от станции, откуда наш вездеход несколько раз волоком притаскивал всякое брошенное там добро, в том числе деревянные строения. Это был самый северный объект ГУЛага ‒ отдельный лагерный пункт "Рыбак" в составе Норильского ИТЛ, удаленный от него на север на 850 км. В 1951-1952 годах численность заключенных в нем составляла от 200 до 800 чел., их туда завезли для строительства будущего большого лагеря. Кроме этого, заключенные были заняты на геолого-разведочных работах и в попутной добыче небольших объемов радиоактивных руд (данные сайта "Мемориал").

Остатки лагеря заключенных на полуострове Челюскин
Примерно в марте-апреле к нам прибыл еще один электрик, Сотников. А кроме того, из диксонского РМЦ ‒ его главный энергетик и инспекторы. Один из них, татарин Равиль, узнав о моих "подвигах", предложил вместе со мной составить заявку на доставку в навигацию бронированного кабеля для укладки его в наземных коробах вместо воздушной линии, но он считал, что, поскольку вышестоящее начальство эту заявку будет урезать, нам следует завышать требуемый метраж кабеля вдвое, не стесняясь. Не знаю, что потом из этого вышло...
Сотникова я сразу же невольно огорчил сразу двумя выигрышами у него в шахматном турнире, причем он попросил второй выигрыш временно не отражать в таблице, чтобы не позорить его. В турнире участвовали почти все мужчины, около 20 человек, я занял третье место. Из других спортивных развлечений был биллиард и однажды футбольный матч с пограничниками при температуре -30, это уже когда днем начинало светать, и если не ошибаюсь, мне удалось забить гол.
С пограничниками был связан и трагический случай. Они, несколько человек во главе с их крупным сильным командиром, на вездеходе поехали опробовать рацию, на каком удалении она может работать. Но перестали выходить на связь. Тюков, опытный полярник, забезпокоился и снарядил на поиски наш вездеход, лично отправившись на нем по оставшимся в снегу следам гусениц. К счастью не было пурги. Нашел измотанную группу солдатиков, по приказу командира бросившую заглохший вездеход и возвращавшуюся пешком. Вездеходчик не имел теплой одежды, на морозе выбился из сил и командир нес его на себе ‒ это было ошибкой, так как он уже стал "сахарным", когда Тюков нашел их... Лучше было бы им дожидаться своих спасателей в вездеходе...
Незабываемым праздником для всех нас была встреча солнца, когда оно впервые показывало свой долгожданный краешек после четырехмесячной полярной ночи (в мою зимовку это было 17 февраля). В этот день в полдень на вездеходах выезжали на возвышенность в направлении речки Каньонка, устраивали салют, стрельбу по мишеням, разрешалось нарушить и сухой закон. Тогда я единственный раз в жизни стрелял из Калашникова, трассирующими пулями, и удивился тому, как причудливо они летят: не по прямой в цель, а сильно виляя, так что попасть не всегда удавалось. Как же они попадают во врага на войне?..
В нашем общежитии было четыре комнаты, в некоторых жили вдвоем, все это были молодые несемейные ребята. Я подружился с радистом Володей Скворцовым из подмосковного Егорьевска, который уважительно относился к моим занятиям по самообразованию. Один из ребят, разнорабочий, на спор, за бутылку питьевого спирта, поедал стеклянные стаканы и лезвия безопасных бритв, кроша их зубами. Спор он обычно завязывал с вновь прибывшими или с транзитными пассажирами, пролетавшими на дальние станции, не ведавшими о такой его способности, и выигрывал. Он еще запомнился мне тем, что они с другом, таким же разнорабочим, пили чай, почти наполовину заполняя стакан тающим сливочным маслом, видимо им было нужно много калорий, поскольку работали они в основном снаружи, на морозе. (Вскоре и меня дополнительно оформили разнорабочим на полставки, так как мне приходилось им помогать в расчистке от снега дизельной и котельной у жилого дома.)
Впрочем, всем нам приходилось заниматься наружной физической работой, которая всегда находилась. Особым коллективным ритуалом была еженедельная загрузка снегом бани: мы пилили пилами слежавшийся снег и носили его блоки в расположенный на крыше люк цистерны, которая снизу нагревалась горелкой, и снег превращался в воду. Сначала она из крана шла более менее чистая, а в конце банного дня приобретала цвет кваса и даже превращалась в ржавую жижу.
Во всех общежитских комнатах все окна были обледенелыми, причем лед охватывал и подоконник. В нем почему-то появлялись щели, сквозь которые снаружи поступал холодный воздух. Время от времени окно приходилось снаружи обливать водой из ведра, которая заполняла все трещины и моментально замерзала ‒ до появления новых трещин.
Свою комнату я делил с пожилым человеком, бывшим полярником, который вернулся на Север, чтобы заработать себе полярный стаж для досрочной пенсии. Он постоянно ходил в комнате взад-вперед, действуя мне на нервы, а я ему действовал на нервы слушанием западных радиостанций сквозь шум глушилок. Я уже тогда становился антисоветчиком. Но он пожаловался начальнику только на шум, не на его содержание, и его перевели в другой дом.
Забавно, что на нашей станции при численности полярников всего лишь человек в сорок был "особист" ‒ старый еврей в отдельном секретном кабинете со специальными антеннами, тоже зарабатывавший себе повышенную северную пенсию контролем за нашей благонадежностью (как-никак это была и государственная граница, хотя бежать оттуда было невозможно), впрочем, он появлялся только в кают-компании, чтобы поесть. На 1 мая была устроена почти пародийная, но серьезная "демонстрация трудящихся": несколько человек "колонной" с красным флагом прошли в метель десять метров между складом и нашей избой-общежитием. Полагались и политинформации, комсомольцы были обязаны по очереди готовить доклады: я подготовил по "философской" работе Ленина "Материализм и эмпириокритицизм", подошел к ее пониманию "творчески", с домысливанием, но содержания тех своих фантазий, которые я умудрился выудить из этого скучнейшего текста, уже не помню, кроме темы таинственной "безконечности материи и, значит, безконечности ее научного познания". Примерно в таком же фантастически-художественном "экзистенциальном" духе я сделал стенгазету (уже без Ленина), но содержания ее совершенно не помню.
Был там и молодой коммунист, который тоже видел партийное политическое вранье, но уговаривал меня: мол, в партию должны вступать такие искренние, как я, чтобы менять ее изнутри. Я об этом несколько дней раздумывал, но Господь уберег.
Самым приятным временем был ужин и последующее вечернее время в кают-компании. Там на кинопроекторе крутили художественные фильмы и имелась большая библиотека. Иногда, на праздники, устраивались "танцы". Была там очень бойкая молодая девушка Ада, попытавшаяся меня "соблазнить", после очередного "танца" мы даже пришли вдвоем в мою комнату в общежитие, и она была готова "на всё", но дальше я не нашелся, что с ней делать. И слава Богу, потому что у одного бывшего моряка загранплавания обнаружился сифилис, приобретенный им у кубинской проститутки, который он передал по крайней мере одной своей партнерше на станции... Сексуальные связи между холостым персоналом станции, возможно, были более обширными...
В начале мая 1970 года на станцию пришел небольшой отряд лыжников под руководством Дмитрия Шпаро. Они прошли через весь таймырский полуостров с юга на север, готовясь к лыжному походу на полюс в будущем. Я с ними подружился и потом в Москве стал готовиться к их следующему походу на Северной земле, но помешали признаки аппендицита, к тому же на животе появилась то ли грыжа, то ли липома и какие-то нарушения с венами вскоре по переезде в Москву ‒ возможно, из-за резкой смены климата, либо эти проблемы коренились уже в моей полярной зимовке и возникли бы и там тоже. (Группа Шпаро достигла северного полюса на лыжах в 1979 году.)
Поскольку с приездом Сотникова я перестал быть единственным и незаменимым электриком, в первых числах мая я решил уволиться для поступления в институт, и Тюков, отечески меня опекавший, отпустил меня с хорошей характеристикой. Ближайшим бортом вместе с лыжниками я спустился на Диксон, где Андрей Денисов уже стал молодоженом и как раз собрался с женой в отпуск, предоставив мне свою квартиру (она состояла из двух комнат в семейном доме).
Для поступления в МГИМО требовалась характеристика ни много ни мало ‒ аж от крайкома КПСС! ‒ и для ее получения нужны были характеристики от промежуточных идеологических уровней, в данном случае начиная с диксонского райкома комсомола, которую я получил на основании своей предыдущей "общественной работы" в аэропорту.
Однако на Диксоне я задержался на две недели, потому что в моей жизни произошло важное, долгожданное событие, и по этому поводу я каждый день покупал в буфете шампанское, потратив на это половину заработанных денег. Я уже упомянул сестер-красавиц в летной столовой. Одна из них, Оля Р., стала моей первой женщиной, которую я так долго ждал романтически как эстетически совершенной и настоящей любви ‒ это произошло у меня 19 мая 1970 года на 22-м году жизни.
С Диксона я полетел за следующей характеристикой в Дудинку, которая была столицей таймырского Долгано-ненецкого национального округа. Помню последний день, когда, "не солоно хлебавши", улетал оттуда в Красноярск с аэродрома "Алыкель": 31 мая был легкий морозец, и снежную поземку красиво серебрили солнечные лучи ‒ так мне запомнилось прощание с Севером. Как и в Дудинке, в краевом центре Красноярске коммунистические чиновники на меня смотрели как на юродивого, прибывшего без спроса из арктических льдов и не понимающего того, как нужно заслужить доверие мудрой партии.
Тем не менее, настроившись на Москву, я решительно "сжег мосты" в ставропольском политехническом институте, не став сдавать экзамены за третий курс, и забрал там документы. При этом "важная" тетка в отделе кадров, желая проявить свою власть и унизить меня, отказалась выдать мне справку, что я закончил два курса, несмотря на мое возражение она написала: "был студентом второго курса", ‒ что фактически означало, что я его не окончил... Но с этим политехническим мiром уже не хотел иметь ничего общего, и в сущности эта справка мне была не нужна.
Если вернуться к сравнению моей биографии с деревом, то Арктика стала временем просыпания у дерева сознания: для чего оно растет в мiре. Закончу арктическую тему ностальгическим стихотворением, которое я написал гораздо позже, в Германии, уже став верующим.
Арктика. Памяти героев
Вершина мiра. Всемогущий
Бог ее сóздал в назиданье
Смирения – для власть имущих.
Как тайну ‒ для искавших знанья.
Звезды полярной вертикалью
Нам вечность с Неба шлет свой зов,
Сияет с неба Божьей шалью –
То Богородицы покров.
Сошлись в букет меридианы,
Пространство обращая в нуль,
Отсюда вниз стекают океаны,
И континенты знают Божий руль.
Отсюда Бог вращает мiрозданье
Даруя солнце каждый день,
Дает бег времени – для покаянья,
И жизни свет, и смерти тень.
Риз ледяных дворец!.. Сияет
Архангельский лучистый зрак.
А солнца ход напоминает
Про вечный рай и вечный мрак.
Они наглядны в своей силе,
Полгода меряясь лицом к лицу.
Их бесконечность покорили
Вы с благодарностью Творцу.
Узнаем всё в конце земного
Когда земля лишится грешных пут
И свиток дней раскроется у Бога.
И обожжет нас Божий Суд.
Немало храбрых рисковали
Ценою жизни тайну вскрыть
Манящей нас ледовой дали,
И гибли там... Как их забыть?
Отважные – у Бога на вершине
В обителях для тех, кто смерть презрел.
Их жертва ценится доныне
Их память ‒ скромный наш удел.
Всем, кто блаженно посетил
Сию границу бытия,
Я эти строки посвятил,
С надеждой, что вернусь и я
В края, где много приобрёл,
Познав холодную красу.
Сова Минервы иль орёл
Меня туда вновь принесут.
Работа в Арктике ‒ это следующее примечательное "произведение", созданное мною в моей жизненной летописи. Хотя это длилось всего два года, но без них теперь всё ощущалось бы как-то "не так", и я был бы "не я"...
Я правильно сделал, что поторопился, так как прибыл на Диксон за два дня до закрытия советских северных границ: с 1 января 1969 года туда стало возможно попасть только местным жителям со штампом в паспорте или по специальному разрешению.
Тогда в Ставрополе я наметил себе побывать в крайних точках советской территории, также на Памире и на острове Шикотан, но Север манил героической историей его исследования и романтикой труднодоступного края земли, где пространство и время, казалось, должны иметь иные качества. Эти ощущения и ожидания я уже описывал в философском опыте своей жизни, так что вернусь к северному производственному опыту.
Остров Диксон в СССР был известен благодаря песне:
«Поёт морзянка за стеной весёлым дискантом,
Крутом снега, хоть сотни вёрст исколеси,
Четвертый день пурга качается над Диксоном,
Но ты об этом лучше песню расспроси...»
Это скалистый остров (около 25 кв. км) в Северном Ледовитом океане при выходе Енисейской губы в Карское море в 1,5 км от материка, где расположен береговой поселок (73°30' с.ш. и 80°30' в.д.). На Диксоне никогда не было местного коренного населения, нет ни одного дерева, ни одного куста – это зона арктической пустыни. Зимой солнце не появляется над горизонтом два с половиной месяца: с 15 ноября по 1 февраля (столько же времени летом длится полярный день). Фактически то и другое состояние, ночи и ее отсутствия, длится дольше с учетом переходного времени. Самый теплый месяц ‒ август со средней температурой +5°С. Ближайшие ненцы-нганасаны живут на материке в тундре 200-300 км южнее, где уже есть пригодная растительность – корм для оленей.
Тем не менее в ХХ веке Диксон был столицей Русской Арктики: отсюда шло авиационное и морское снабжение полярных станций, ледовая авиаразведка по проводке судов сквозь льды Северного морского пути. Диксонский морской порт как самый северный в России и единственный в Карском море имел также значение для обезпечения маршрута вывоза из Дудинки енисейского леса и норильских металлов, как и для снабжения северных сибирских территорий в навигацию.
Остров был с начала XVII века известен русским поморам. Арктические исследователи официально "открыли" его в XVIII веке. Во время Великой Северной экспедиции в 1738 г. начальник её Обь-Енисейского отряда, штурман Федор Минин дал острову название Большой Северо-Восточный. Позже русские промышленники именовали его как остров Долгий, а также остров Кузькин (по легенде от имени морехода-промышленника Кузьмы).
В 1875 г. остров посетил шведский полярный исследователь Адольф Эрик Норденшельд на судне "Прёвен" и назвал врезающуюся в восточный берег бухту Гаванью Диксона, по имени шведского предпринимателя Оскара Диксона, финансировавшего эту экспедицию. Позже Норденшельд распространил название Диксон на остров. В 1894 г. начальник Российской гидрографической экспедиции А.И. Вилькицкий официально узаконил это название. (Норденшельд был также иностранным членом-корреспондентом Петербургской академии наук и почетным членом Русского географического общества.)
В 1915 г. на острове были созданы запасы угля для экспедиции морских судов "Таймыр" и "Вайгач", совершивших первое сквозное прохождение по Северному морскому пути с востока на запад под руководством Б.А. Вилькицкого. Для зимовья были собраны два жилых бревенчатых дома и баня, привезенные вместе с углем – из расчета на проживание 54 человек (часть из них размещалась на лихтере "Корреспондент"). 7 сентября 1915 г. на острове впервые в эфире прозвучали позывные одной из первых арктических радиостанций, этот день теперь считается днем основания Диксона. В 1916 г. Совет министров Российской Империи принял постановление о выделении средств на оборудование постоянной гидрометеорологической полярной станции на острове.
На Диксон я прилетел из Москвы с промежуточной посадкой в Амдерме в воскресенье 29 декабря 1968 года и первые дни провел в летной гостинице. Непривычна была сплошная ночь без солнца и медленные переливы зеленоватого шелка в небе ‒ знаменитое северное сияние, ‒ оказалось, что оно большей частью бывает спокойным и редко играет всеми цветами радуги. Вообще потом увидел на Севере много разных небесных эффектов: четыре луны по четырем сторонам небосвода, "солнце с ушами", то есть три солнца, одно из которых настоящее в центре триптиха, а два других по бокам ‒ ложные. Однажды весной в небе за пеленгатором изобразились расходящиеся веером лучи, как на сигаретной пачке "Север".
Я прибыл на Диксон сразу после облета американцами Луны ‒ это событие было воспринято мною как важное философское событие, прорыв в человеческой истории. Я долго смотрел на Луну в сияющем по этому случаю небе, представляя себе там космический корабль с людьми, и мурашки бежали по телу... Однако в центральных советских газетах об этом было лишь краткое сообщение на последних страницах, ‒ и это было для коммунизма саморазоблачительно: "они" скрывают от нас смысл мiроздания, остро ощутил я. Это стало поворотной точкой в появлении в СССР еще одного двадцатилетнего антисоветчика.
На следующий день меня принял "замполит" аэропорта Львов, который с удовольствием рассмотрел все мои документы, включая техникумовскую характеристику и спортивные грамоты, сказал, что в материковом поселке (через пролив) строится спортзал, где я смогу повышать свое гимнастическое мастерство, и определил меня электромехаником ночного старта, то есть для обслуживания электрооборудования взлетно-посадочной полосы. Меня разместили в общежитии и выдали полушубок 54-го размера (хотя у меня был 44-й, но других не было, и я потом ходил в нем на посмешище всем как пугало). В первый же день пришлось в "кошках" неумело залезать на столб у гостиницы и что-то наверху чинить.
К новому году началась пурга. Узнав о коллективной встрече нового года в Радиометцентре, я отправился туда по полученной устной инструкции, как туда пройти ‒ всего лишь метров 600, но в пургу это было непросто из-за отсутствия видимости, а когда я вошел в помещение с длинным праздничным столом, мне сразу указали на побелевшую щеку, которую пришлось оттирать. Незнакомца приняли радушно, усадив за стол. А возвращаясь в гостиницу, я прошел мимо нее, не заметив в пурге двухэтажного здания и выйдя за границу поселка к погранзаставе, но вовремя это осознал, иначе бы мог забрести далече.
Соседом в комнате позже оказался молодой выпускник Ульяновского авиаучилища Андрей Денисов, работавший диспетчером. Я любил по ночам (в выходные дни) бывать в его башне, слушать его командные указания пролетавшим бортам, в том числе военным, а потом мы шли в столовую, где дежурили сестры-красавицы для кормежки ночной смены аэропорта.
Благодаря Андрею я вошел в островную молодежную "элиту", в основном из РМЦ, где народу было больше, и уважаемым "королем" на острове был вездеходчик Володя Дерябин, курсировавший по льду через пролив, куда ездили в магазин. Однажды мы с Андреем, уже весной, рискнули пройти сами через пролив, покрывшийся разводьями, и чуть не оказались в ледовой ловушке.
Мы с Андреем создали ансамбль типа "Биттлз" и играли на танцах в клубе РМЦ, однажды дали концерт в клубе аэропорта. На нем в зале присутствовал матерый полярный летчик ‒ бортмеханик Александр, который похвалил нас и спел песню своего сочинения с вальсовым тактом 3/4, которая мне понравилась, я ее с одного раза запомнил и впоследствии не раз пел:
«Далеко от Москвы, далеко от земли
Не идут поезда, не плывут корабли.
Лишь случай порой залетит самолет,
А кругом только лед, только лед, только лед...»
И далее в песне говорится о письме, которое полярник пишет своей любимой, но не отправляет, надеясь вскоре привезти и прочесть лично...
Мы с Андреем оставили о себе память на острове, нарисовав для фасада клуба на фанерных щитах большие картины в плакатном духе "светлого будущего". Андрей быстро нарисовал Ленина, копируя его портрет по клеточкам, а я, что-то припоминая из Невинномысского химкомбината, изобразил силуэты промышленного пейзажа с домнами, линиями ЛЭП, башнями-градирнями и т.п., куда мы хулигански вмонтировали винную бутылку ‒ в то место, куда тянется опущенная вниз рука счастливого пролетария, воздевающего другую руку вверх. Замполит был очень доволен. (За такую "активную общественную работу" мне потом дали на Диксоне хорошую характеристику для поступления в московский институт.)
Центральным местом моей работы было помещение дизельной, где два огромных агрегата производили электрическую энергию для всего острова. Было нас там вместе с дизелистами человек пять, хорошие практики, умевшие разобрать дизельный двигатель до винтика и вновь собрать. Вскоре у нас появился Иванченко с Украины, признавшийся, что его "информированный кум" посоветовал переждать эти годы подальше от возможной атомной войны. Был он жадноват, груб и неприятен в поведении, начиная от красных глаз и до своих житейских поговорок, наглядно иллюстрируя собой соответствующие анекдоты "про хохлов и сало".
Работать приходилось не только в аэропорту, но и с электрооборудованием на аэропортовских объектах на всем острове, включая жилые дома. Это была обычная работа электрика, правда с изношенным оборудованием, которое постоянно отказывало в арктических условиях. Отмечу из нее два эпизода.
В зимнее время взлетно-посадочную полосу устраивали в восточной бухте на льду для приема большегрузных бортов. И однажды меня срочно вызвали: грузовой АН-22 шел на посадку, и именно в этот момент на полосе погасли огни, он едва смог набрать высоту. Нужно было срочно восстанавливать освещение. Два километра выложенного на лед и занесенного снегом кабеля туда и назад составляли четыре километра. Пришлось пройти их большую часть, разгребая снег, пока не обнаружил рассоединение. Выскочил я тогда на лед в полушубке, но в обычных брюках, и обморозил себе кое-что важное, но возможность потомства всё же сохранилась (свидетельство тому ‒ дети и семеро внуков, для которых пишу эти воспоминания). На подобную мою авральную работу не распространялись актированные дни, когда по закону при очень низкой температуре (не помню точно: 50 или 52 градуса) наружные работы прекращались. В тот день было примерно так.

Диксон, 1969 г. Ледовый аэродром в бухте.
Второй, более серьезный случай произошел в пургу, когда при видимости в 1-2 метра я шел к самолетной стоянке и был остановлен ярким светом в лицо перед работающими винтами, до которых оставалось метра два ‒ и мне бы снесло голову... Мне тогда спас жизнь тот самый бортмеханик Александр, прогревавший мотор своего Ли-2 и включивший свет.
В свободное от работы время я в основном читал, и однажды наше общежитие посетил какой-то важный человек (прилетевший из Москвы, видимо, для инспекции), он очень удивился, увидев на моей тумбочке книгу "История дипломатии", и спросил, зачем я это читаю. Я ответил, что готовлюсь к поступлению в МГИМО (Московский институт международных отношений), чем еще больше удивил его. Это была тогда, действительно, моя цель.
В апреле 1969 года меня решили взять в армию, на прощальном вечере замполит подарил электробритву (я ее потом продал на алжирском рынке, будучи в бегах). Новобранцев с Диксона было 11 человек, нас спецбортом привезли в Дудинку, оттуда поездом в Норильск, где мы десять дней упражнялись в стрельбе в спортзале. Потом всё же выяснили, что меня как студента-заочника призывать не положено, и отпустили.
Проживавший в Норильске друг Андрея Денисова пустил меня переночевать к себе в общежитие авиаторов, спали вдвоем на одной узкой кровати, и на следующий день он пристроил меня на попутный вертолет в Дудинку, откуда примерно раз в неделю летали борты на Диксон. Вертолет летел низко над тундрой, в которой меня поразили огромные стада диких оленей. Борт на Диксон пришлось там ждать еще пару дней.
Вернувшись "из армии", я пошел к замполиту с упреком: я же говорил, что имею право на отсрочку от призыва... Меня восстановили на прежней работе. Наступало "лето", и я полетел в Ставрополь для сдачи экзаменов за второй курс института. На обратном пути повидал белые ночи в Ленинграде, включив его в свой безплатный авиамаршрут. Ночевал у Антонины Александровны Клюи, старушки-инвалида, по рекомендации Дзарагазовых из Ставрополя...
На Севере вообще с соблюдением формальностей было проще: чтобы не ждать неделю регулярного рейса в Москву, я летел туда с Диксона на грузовом самолете (опять-таки летчиков попросил Андрей), на 21-летие в сентябре ребята подарили мне охотничье ружье без всякой регистрации. И мелкашку можно было брать "напрокат" без проблем, а массу патронов к ней я получил от мамы в посылке по обычной почте... (Такой коммунистический "тоталитаризм" по нынешним временам выглядит просто невероятным.) Отделы кадров снисходительно относились и к т.н. "северным бракам" своих сотрудников, выделяя сожителям совместное жилье... Неудивительно, что народ там чувствовал себя свободнее, тут же и охота, рыбалка, поэтому некоторые не ездили на материк десятилетиями: север затягивал своей вольностью, как когда-то южная степь ‒ казаков.
Диксонское лето было очень коротким, и когда я вернулся после сдачи экзаменов (перейдя на третий курс), мне выдали тот же самый прежний полушубок 54-го размера, уже изрядно грязный. Я возмутился, решил уволиться и лететь на Памир. Но не помню уже, кто посоветовал мне обратиться в РМЦ ‒ вроде бы наклевывалась работа на Земле Франца-Иосифа совсем близко к полюсу. Это было бы для меня огромной радостью, но пришлось довольствоваться мысом Челюскин с обещанием ЗФИ на будущее.
На Челюскин я летел на самолете того бортмеханика Александра, он по-отечески покачал головой: мол, куда и зачем тебя несет, экзальтированный романтический юноша...

Полярная станция на мысе Челюскин
Мыс Челюскин
Экзальтация и в самом деле была: ведь это был край земли! ‒ самая северная точка материковой суши на планете (77°43' с. ш. и 104°18' в. д.). Полярная ночь там продолжается с 29 октября по 14 февраля, лета практически не бывает: средняя "летняя" температура минусовая: для июля −0,1°C, для августа −0,9°C.
Мыс Челюскин был открыт 7 мая 1742 года штурманом Семеном Ивановичем Челюскиным, который добрался туда на собачьих упряжках (там фамилию его открывателя используют в названии мыса именно так, в именительном, а не родительном падеже, и ударение почему-то часто ставят на первый слог).
Если уже Диксон был основан на необитаемом острове арктической пустыни, которая оттаивала лишь на пару месяцев в году, то что уж говорить о Челюскине: наша станция с экипажем в 40 человек была подобна космическому кораблю, полностью зависевшему от снабжения с материка, причем даже в летнюю навигацию судам не всегда удавалось туда пробиться, так как пролив Вилькицкого не всегда освобождался от льда.
Нахождение на краю земли придавало нового воодушевления (позже я бы сказал: пограничного экзистенциального ощущения). Но первый день начался с грязной авральной работы: сгорела котельная в самом большом жилом доме Радиометцентра. Вернувшись в общежитие, я обнаружил, что из моих вещей пропали (были употреблены внутрь не по назначению) спиртосодержащие предметы ‒ одеколон для бритья и лосьон от прыщей ‒ таков был обычай полярной станции для приезжих, где вообще был сухой закон и спиртное можно было получить только по особым случаям: в день рождения или как награду за совершенный "подвиг".
Таких случаев мне как электромеханику за эту зимовку 1969‒1970 представилось раз пять к радости и других наших челюскинцев. Дело в том, что удивительным образом, советские проектировщики станции проявили большую некомпетентность в ее электроснабжении. На станции расположены чуткие научные измерительные приборы, а их работу своим электромагнитным излучением нарушают и передающие антенны, и работающие дизеля ‒ это обычный источник электронергии в малых северных поселениях (в том числе на о. Диксон). Поэтому дизельная станция там вынесена на четыре километра южнее, вместе с передающими антеннами. Эта пара строений называлась Передающей. Ходить туда со станции предписывалось с заряженным карабином ‒ на случай обороны от медведя (но мне не разу не попался).
Передающую соединяла со станцией воздушная проводная линия на деревянных столбах с керамическими изоляторами, на которые провода были уложены без креплений. Провода многожильные скрученные, в местах их опоры на изоляторы они со временем перетирались и обрывались. Происходило это от сильного ветра во время пурги. При прерывании электроснабжения от Передающей в береговом поселке, во избежание его замерзания, временно включались местные дизеля, что было неприемлемо с точки зрения научных измерений. Нужно было срочно искать и восстанавливать обрыв.
Пурга на Челюскине случалась очень часто. Температура ‒ минус 35, ветер 35 м/сек., страшный рёв воздуха, видимость не более метра... На двух вездеходах очень медленно едем "на ощупь" вдоль четырехкилометровой линии, находим место обрыва. Я затаскиваю концы оборванного провода в теплый вездеход и прикрепляю зажимами кусок такого же провода и трос к каждому концу, лезу с первым в кошках на 4-метровый столб, перекидываю трос через изолятор и даю вниз команду натягивать. Моя команда в течение 3-5 секунд передается по цепочке из 5-8 человек водителю вездехода, который очень-очень медленно начинает натягивать трос, пока место обрыва не коснется изолятора. Вверху я оцениваю скорость натяжения и заблаговременно даю сигнал об остановке. Затем аналогичные действия повторяются со вторым оборванным проводом с добавленным у нему внахлест куском, который я точно также наверху перекидываю через изолятор и он вторым вездеходом натягивается в противоположную сторону точно до стыкового положения обрыва с первым концом. После этого начинаю двумя новыми зажимами скреплять накладной кусок провода с оборванными концами. Наверху приходится это делать уже голыми пальцами, чтобы удерживать непослушные гайки, выдерживаю на морозе лишь секунд 20, пальцы прилипают к металлу, приходится их периодически отогревать в рукавице, что тоже происходит не быстро. Лишь после наживления гаек в несколько оборотов их можно затягивать ключом ‒ причем все их надо затянуть, что было силы. Скрепив концы, снимаю оба зажима с натяжных тросов. Всего эта операция вместе с поиском обрыва могла занимать до 5 часов, а однажды не помогло, так как был второй обрыв на линии и всё пришлось повторять с начала... Это был мой главный "подвиг" в Арктике.
Если представить себе (как я это там делал), что существует Верховный Наблюдатель за человечеством, Он, глядя сверху на эту кучку бородатых людей, командуемых самым младшим из них почти юнцом, глядя, как они, едва удерживаясь на ногах в стремительном снежном потоке в окружающей кромешной тьме, стараются соединить два длинных куска металла, чтобы по ним побежали миллиарды электронов, согревающих и защищающих жалкие человеческие домишки от всепронзающей стужи, ‒ что подумал бы о них этот Наблюдатель? Наверное: и что это занесло их сюда, на безжизненный край земли? Что им не живется у теплых морей, где колосятся бананы с мандаринами, в дубовых бочках плещется благородное вино, которое разносят в кувшинах стройные красавицы? Или хотя бы на тех благодатных средних широтах, где на земле есть растительность, от которой можно питаться?
Мы, люди, посмотреть на себя так не способны, однако можем удивляться тому, для чего на эту северную землю, едва освобождающуюся от снега на месяц в году, зачем-то упорно заползает жизнь в виде мхов и лишайников, терпящих годовую ледяную тюрьму, чтобы ожить на короткий миг ‒ для кого? Не говоря уже о птицах, специально прилетающих с югов гнездиться на мрачных скалах Ледовитого океана и выхаживать тут птенцов, которые, едва окрепнув, улетают с родителями на юг и опять-таки зачем-то будут ежегодно за многие тысячи километров возвращаться в эту ледяную родину?..
А после совершения "подвига" все его участники (человек 15, желающих всегда было много) получают в кают-кампании пусть и не благородное южное вино, но более концентрированную жидкость ‒ заслуженное спиртовое вознаграждение. Спирт мы пьем разведенным с водой, отчего он нагревается и становится неприятным. Если же пить неразбавленный, то обжигается слизистая оболочка рта и потом она слезает лоскутами...
Другой мой "подвиг" был на Передающей, уже "интеллектуальный". Он состоял в том, что, не будучи дизелистом, я разобрался в электрической схеме остановившегося мощного дизельного агрегата и смог его привести в рабочее состояние. Аппаратура к нему занимала несколько шкафов и стеллажей, электрическая схема была размером с простыню и, кажется, не одну. Потратил четыре часа, а причина была не в дизеле, а всего лишь в перегоревшем предохранителе одного из пускателей, но разобраться в этом мне удалось лишь методом прозванивания всех проводных соединений в поисках разрыва в общей схеме. Чему-то все-таки в техникуме и на "Красном металлисте" научили... В это время дизелист в ожидании устранения неисправности в подсобной комнате играл с крупными лохматыми щенками и их матерью ‒ им предстояло вырасти в собачью упряжку, а непригодным ‒ послужить материалом для унтов и меховых шапок, пояснил он (такое отношение к собакам меня коробило, но там это было нормой).
Поскольку я был единственным электриком на станции, начальник Николай Дмитриевич Тюков категорически не отпускал меня с нее, несмотря на мои "исследовательские" просьбы. Об этом я до сих пор очень сожалею, так была возможность побывать с гидрологами прямо на Северном полюсе, съездить на вездеходе на станцию Солнечная на Северную землю через пролив Вилькицкого (ее огонек был виден с нашего берега), посетить законсервированный сталинский концлагерь примерно в 100 км к югу от станции, откуда наш вездеход несколько раз волоком притаскивал всякое брошенное там добро, в том числе деревянные строения. Это был самый северный объект ГУЛага ‒ отдельный лагерный пункт "Рыбак" в составе Норильского ИТЛ, удаленный от него на север на 850 км. В 1951-1952 годах численность заключенных в нем составляла от 200 до 800 чел., их туда завезли для строительства будущего большого лагеря. Кроме этого, заключенные были заняты на геолого-разведочных работах и в попутной добыче небольших объемов радиоактивных руд (данные сайта "Мемориал").

Остатки лагеря заключенных на полуострове Челюскин
Примерно в марте-апреле к нам прибыл еще один электрик, Сотников. А кроме того, из диксонского РМЦ ‒ его главный энергетик и инспекторы. Один из них, татарин Равиль, узнав о моих "подвигах", предложил вместе со мной составить заявку на доставку в навигацию бронированного кабеля для укладки его в наземных коробах вместо воздушной линии, но он считал, что, поскольку вышестоящее начальство эту заявку будет урезать, нам следует завышать требуемый метраж кабеля вдвое, не стесняясь. Не знаю, что потом из этого вышло...
Сотникова я сразу же невольно огорчил сразу двумя выигрышами у него в шахматном турнире, причем он попросил второй выигрыш временно не отражать в таблице, чтобы не позорить его. В турнире участвовали почти все мужчины, около 20 человек, я занял третье место. Из других спортивных развлечений был биллиард и однажды футбольный матч с пограничниками при температуре -30, это уже когда днем начинало светать, и если не ошибаюсь, мне удалось забить гол.
С пограничниками был связан и трагический случай. Они, несколько человек во главе с их крупным сильным командиром, на вездеходе поехали опробовать рацию, на каком удалении она может работать. Но перестали выходить на связь. Тюков, опытный полярник, забезпокоился и снарядил на поиски наш вездеход, лично отправившись на нем по оставшимся в снегу следам гусениц. К счастью не было пурги. Нашел измотанную группу солдатиков, по приказу командира бросившую заглохший вездеход и возвращавшуюся пешком. Вездеходчик не имел теплой одежды, на морозе выбился из сил и командир нес его на себе ‒ это было ошибкой, так как он уже стал "сахарным", когда Тюков нашел их... Лучше было бы им дожидаться своих спасателей в вездеходе...
Незабываемым праздником для всех нас была встреча солнца, когда оно впервые показывало свой долгожданный краешек после четырехмесячной полярной ночи (в мою зимовку это было 17 февраля). В этот день в полдень на вездеходах выезжали на возвышенность в направлении речки Каньонка, устраивали салют, стрельбу по мишеням, разрешалось нарушить и сухой закон. Тогда я единственный раз в жизни стрелял из Калашникова, трассирующими пулями, и удивился тому, как причудливо они летят: не по прямой в цель, а сильно виляя, так что попасть не всегда удавалось. Как же они попадают во врага на войне?..
В нашем общежитии было четыре комнаты, в некоторых жили вдвоем, все это были молодые несемейные ребята. Я подружился с радистом Володей Скворцовым из подмосковного Егорьевска, который уважительно относился к моим занятиям по самообразованию. Один из ребят, разнорабочий, на спор, за бутылку питьевого спирта, поедал стеклянные стаканы и лезвия безопасных бритв, кроша их зубами. Спор он обычно завязывал с вновь прибывшими или с транзитными пассажирами, пролетавшими на дальние станции, не ведавшими о такой его способности, и выигрывал. Он еще запомнился мне тем, что они с другом, таким же разнорабочим, пили чай, почти наполовину заполняя стакан тающим сливочным маслом, видимо им было нужно много калорий, поскольку работали они в основном снаружи, на морозе. (Вскоре и меня дополнительно оформили разнорабочим на полставки, так как мне приходилось им помогать в расчистке от снега дизельной и котельной у жилого дома.)
Впрочем, всем нам приходилось заниматься наружной физической работой, которая всегда находилась. Особым коллективным ритуалом была еженедельная загрузка снегом бани: мы пилили пилами слежавшийся снег и носили его блоки в расположенный на крыше люк цистерны, которая снизу нагревалась горелкой, и снег превращался в воду. Сначала она из крана шла более менее чистая, а в конце банного дня приобретала цвет кваса и даже превращалась в ржавую жижу.
Во всех общежитских комнатах все окна были обледенелыми, причем лед охватывал и подоконник. В нем почему-то появлялись щели, сквозь которые снаружи поступал холодный воздух. Время от времени окно приходилось снаружи обливать водой из ведра, которая заполняла все трещины и моментально замерзала ‒ до появления новых трещин.
Свою комнату я делил с пожилым человеком, бывшим полярником, который вернулся на Север, чтобы заработать себе полярный стаж для досрочной пенсии. Он постоянно ходил в комнате взад-вперед, действуя мне на нервы, а я ему действовал на нервы слушанием западных радиостанций сквозь шум глушилок. Я уже тогда становился антисоветчиком. Но он пожаловался начальнику только на шум, не на его содержание, и его перевели в другой дом.
Забавно, что на нашей станции при численности полярников всего лишь человек в сорок был "особист" ‒ старый еврей в отдельном секретном кабинете со специальными антеннами, тоже зарабатывавший себе повышенную северную пенсию контролем за нашей благонадежностью (как-никак это была и государственная граница, хотя бежать оттуда было невозможно), впрочем, он появлялся только в кают-компании, чтобы поесть. На 1 мая была устроена почти пародийная, но серьезная "демонстрация трудящихся": несколько человек "колонной" с красным флагом прошли в метель десять метров между складом и нашей избой-общежитием. Полагались и политинформации, комсомольцы были обязаны по очереди готовить доклады: я подготовил по "философской" работе Ленина "Материализм и эмпириокритицизм", подошел к ее пониманию "творчески", с домысливанием, но содержания тех своих фантазий, которые я умудрился выудить из этого скучнейшего текста, уже не помню, кроме темы таинственной "безконечности материи и, значит, безконечности ее научного познания". Примерно в таком же фантастически-художественном "экзистенциальном" духе я сделал стенгазету (уже без Ленина), но содержания ее совершенно не помню.
Был там и молодой коммунист, который тоже видел партийное политическое вранье, но уговаривал меня: мол, в партию должны вступать такие искренние, как я, чтобы менять ее изнутри. Я об этом несколько дней раздумывал, но Господь уберег.
Самым приятным временем был ужин и последующее вечернее время в кают-компании. Там на кинопроекторе крутили художественные фильмы и имелась большая библиотека. Иногда, на праздники, устраивались "танцы". Была там очень бойкая молодая девушка Ада, попытавшаяся меня "соблазнить", после очередного "танца" мы даже пришли вдвоем в мою комнату в общежитие, и она была готова "на всё", но дальше я не нашелся, что с ней делать. И слава Богу, потому что у одного бывшего моряка загранплавания обнаружился сифилис, приобретенный им у кубинской проститутки, который он передал по крайней мере одной своей партнерше на станции... Сексуальные связи между холостым персоналом станции, возможно, были более обширными...
В начале мая 1970 года на станцию пришел небольшой отряд лыжников под руководством Дмитрия Шпаро. Они прошли через весь таймырский полуостров с юга на север, готовясь к лыжному походу на полюс в будущем. Я с ними подружился и потом в Москве стал готовиться к их следующему походу на Северной земле, но помешали признаки аппендицита, к тому же на животе появилась то ли грыжа, то ли липома и какие-то нарушения с венами вскоре по переезде в Москву ‒ возможно, из-за резкой смены климата, либо эти проблемы коренились уже в моей полярной зимовке и возникли бы и там тоже. (Группа Шпаро достигла северного полюса на лыжах в 1979 году.)
Поскольку с приездом Сотникова я перестал быть единственным и незаменимым электриком, в первых числах мая я решил уволиться для поступления в институт, и Тюков, отечески меня опекавший, отпустил меня с хорошей характеристикой. Ближайшим бортом вместе с лыжниками я спустился на Диксон, где Андрей Денисов уже стал молодоженом и как раз собрался с женой в отпуск, предоставив мне свою квартиру (она состояла из двух комнат в семейном доме).
Для поступления в МГИМО требовалась характеристика ни много ни мало ‒ аж от крайкома КПСС! ‒ и для ее получения нужны были характеристики от промежуточных идеологических уровней, в данном случае начиная с диксонского райкома комсомола, которую я получил на основании своей предыдущей "общественной работы" в аэропорту.
Однако на Диксоне я задержался на две недели, потому что в моей жизни произошло важное, долгожданное событие, и по этому поводу я каждый день покупал в буфете шампанское, потратив на это половину заработанных денег. Я уже упомянул сестер-красавиц в летной столовой. Одна из них, Оля Р., стала моей первой женщиной, которую я так долго ждал романтически как эстетически совершенной и настоящей любви ‒ это произошло у меня 19 мая 1970 года на 22-м году жизни.
С Диксона я полетел за следующей характеристикой в Дудинку, которая была столицей таймырского Долгано-ненецкого национального округа. Помню последний день, когда, "не солоно хлебавши", улетал оттуда в Красноярск с аэродрома "Алыкель": 31 мая был легкий морозец, и снежную поземку красиво серебрили солнечные лучи ‒ так мне запомнилось прощание с Севером. Как и в Дудинке, в краевом центре Красноярске коммунистические чиновники на меня смотрели как на юродивого, прибывшего без спроса из арктических льдов и не понимающего того, как нужно заслужить доверие мудрой партии.
Тем не менее, настроившись на Москву, я решительно "сжег мосты" в ставропольском политехническом институте, не став сдавать экзамены за третий курс, и забрал там документы. При этом "важная" тетка в отделе кадров, желая проявить свою власть и унизить меня, отказалась выдать мне справку, что я закончил два курса, несмотря на мое возражение она написала: "был студентом второго курса", ‒ что фактически означало, что я его не окончил... Но с этим политехническим мiром уже не хотел иметь ничего общего, и в сущности эта справка мне была не нужна.
Если вернуться к сравнению моей биографии с деревом, то Арктика стала временем просыпания у дерева сознания: для чего оно растет в мiре. Закончу арктическую тему ностальгическим стихотворением, которое я написал гораздо позже, в Германии, уже став верующим.
Арктика. Памяти героев
Вершина мiра. Всемогущий
Бог ее сóздал в назиданье
Смирения – для власть имущих.
Как тайну ‒ для искавших знанья.
Звезды полярной вертикалью
Нам вечность с Неба шлет свой зов,
Сияет с неба Божьей шалью –
То Богородицы покров.
Сошлись в букет меридианы,
Пространство обращая в нуль,
Отсюда вниз стекают океаны,
И континенты знают Божий руль.
Отсюда Бог вращает мiрозданье
Даруя солнце каждый день,
Дает бег времени – для покаянья,
И жизни свет, и смерти тень.
Риз ледяных дворец!.. Сияет
Архангельский лучистый зрак.
А солнца ход напоминает
Про вечный рай и вечный мрак.
Они наглядны в своей силе,
Полгода меряясь лицом к лицу.
Их бесконечность покорили
Вы с благодарностью Творцу.
Узнаем всё в конце земного
Когда земля лишится грешных пут
И свиток дней раскроется у Бога.
И обожжет нас Божий Суд.
Немало храбрых рисковали
Ценою жизни тайну вскрыть
Манящей нас ледовой дали,
И гибли там... Как их забыть?
Отважные – у Бога на вершине
В обителях для тех, кто смерть презрел.
Их жертва ценится доныне
Их память ‒ скромный наш удел.
Всем, кто блаженно посетил
Сию границу бытия,
Я эти строки посвятил,
С надеждой, что вернусь и я
В края, где много приобрёл,
Познав холодную красу.
Сова Минервы иль орёл
Меня туда вновь принесут.
-

М.В. Назаров - Администраторы
- Сообщения: 7247
- Зарегистрирован: Вс окт 01, 2006 7:54 pm
- Откуда: Москва
Re: Ваша биография
6. КЛЕТКА МГПИИЯ И БОРЬБА С МАШИНОЙ
(Напоминаю, что всё биографическое, что я выкладываю на форуме - черновики, которые нуждаются в доработке, просто это более надежное место их сохранения, чем компьютер.)
В Москве я всё же первым делом направился в приемную комиссию МГИМО (Московского Государственного института международных отношений), где, разумеется, получил окончательный отказ в приеме документов от пожилого вежливого кадровика (обычно на этих должностях работали готовившиеся выйти на пенсию кагебисты). Однако диксонская комсомольская рекомендация была достаточна для поступления в иняз, который в моем "рейтинге" стоял на втором месте, и там мои документы приняли. Так со второй попытки, уже по техникумовскому диплому и с "заслуженным" трехлетним трудовым стажем, я успешно сдал экзамены (две пятерки и две четверки) и стал студентом переводческого факультета МГПИИЯ.

Московский институт иностранных языков имени французского коммуниста Мориса Тореза помещался в этом бывшем особняке московского губернатора П.Д. Еропкина, который жил здесь до 1805 года. Дом достался в наследство его родственникам Новосильцевым, а затем перешёл во владение князей Гагариных. В этом здании бывали А.С. Пушкин, И.А. Гончаров, С.М. Соловьев. Здание имело очень сложную внутреннюю архитектуру разных уровней со множеством переходов, что в моем представлении было иллюстрацией к Кафке, который меня тогда увлек своим абсурдизмом (я его выбрал и для своей дипломной работы). На скучных комсомольских собраниях моим головоломным занятием было составление в уме полного плана здания. Он мне иногда снится...
Главное политическое содержание этих лет я уже описал в статье "1975: Москва ‒ Алжир ‒ Мюнхен. Опыт моей переводческой биографии" (уделив внимание своим неприятным взаимоотношениям с КГБ, распределению в Алжир и побегу оттуда), так что сейчас ограничусь дополнительным фоном тех студенческих лет, кое-что повторяя, без чего тут нельзя обойтись. Если до сих пор, хотя я и не мог уклониться от воздействия советской государственной системы, но всё же она не так сильно на меня давила в личной жизни, теперь, в элитарном столичном вузе, готовившем "бойцов идеологического фронта", я попал в ее силовое поле, создаваемое какими-то мощными генераторами и принуждающее меня формировать жизнь по ее законам. Это была Машина, которая старалась сделать из меня винтик, задействовать в своем механизме, регламентируя всю мою жизнь, предписывая, что мне положено и что не положено знать, какую носить одежду, прическу ‒ и так уже на всю дальнейшую жизнь... Это вызывало мое ответное сопротивление (поскольку, напомню техникумовскую характеристику: я "отличался строптивостью характера").
Вспоминая прежний образ растущего "дерева", московский студенческий период своей биографии охарактеризую так: дерево осознало себя родившимся в Клетке, сквозь металлические прутья которой прорастали мои тянувшиеся к свету ветви, но не могли ее сломать, и освобождение от нее стало жизненным вызовом. Дерево страстно возжелало расти на свободе. Иначе при дальнейшем утолщении ствола прутья этой клетки впились бы в него, став его внутренним скелетом, определяющим его жизнь. Цель освобождения была возбуждающе заманчива, она ощущалась как главное испытание, на что ты вообще способен. Ставкой и наградой здесь была сама жизнь – даруемая нам один раз, и разве можно ее безсмысленно приносить в жертву Машине с ее Клеткой?.. ‒ Так я описал свое исходное ощущение замысленного тогда плана побега на Запад, в начале своей книги "Миссия русской эмиграции".
При этом дерево в своем напоре на прутья клетки еще не понимало духовного смысла свободы, порою отвергая и ее необходимые в любом обществе нормы, и связанную с этим ответственность, соблазняясь ложными дальними "лучами света". Ложь советской Системы нашла во мне благодатную почву для взращивания себе антисоветчика. Наверное, и антисоветчики были нужны Системе в качестве громоотвода для народного недовольства, чтобы сваливать на них свои просчеты и даже свой террор (как было при Ленине и Сталине с массовыми казнями "контрреволюционеров" и "врагов народа").
Впрочем, поначалу антисоветчиком я был еще не принципиальным идеологическим, а всего лишь индивидуалистом. Это выражено в стихотворении тех лет:
«Если бы я был американцем,
Я бы жил тогда роскошно,
Или был бы оборванцем,
Или еще как там можно,
Жил бы жизнью пестрой, шершавою,
Какою там люди живут.
Мне коммунизм не мешает,
Но разве меня поймут?..»
Уже в начале первого курса в 1970 году, помню, мы втроем (Гена Кульбицкий и Саша Редько) гуляли вечером по Новому Арбату и говорили на политические темы ‒ об идеологической лжи, цензуре и т.п. И решили: надо делать революцию! Причем это сказал не я, а Кульбицкий. (Он потом стал советским пропагандистом-корреспондентом ТАСС в Германии и в конце 1980-х, встретившись со мною на одном из "перестроечных" культурных советско-германских мероприятий в Мюнхене, осуждающе бросил мне: "Не понимаю, зачем ты это сделал", и сфотографировал меня, видимо, для передачи "туда, куда надо". Это пример того, во что Клетка может превратить людей, подчинившихся ее законам и сросшихся с ее прутьями.)
И еще курьезный случай: на том же первом курсе девушка одного из студентов нашей группы работала в каком-то архиве и однажды принесла оттуда "Программу НТС", которая показалась мне несерьезной, бутафорской, ‒ было это примерно в 1971 году. Мог ли я тогда предположить, что через несколько лет стану работать в этой махровой антисоветской организации, и принимать в нее меня будет сам ее глава...
В те годы в отношениях США и СССР была объявлена "разрядка", "Голос Америки" перестали глушить, и мы, студенты, его регулярно слушали. Завязав знакомство с продавщицей журнального киоска в центре Москвы, можно было приобретать иллюстрированный журнал "Америка". На таких же паритетных началах в западных странах продавался журнал "Советский Союз", расписывающий успехи советского строя, с соответствующими радиопередачами на иностранных языках. Велась советская пропаганда весьма топорно и навязчиво, тогда как западная привлекала именно ненавязчивой демонстрацией свободы и высокого уровня жизни, ее интересным разнообразием. И этот просчет советской власти давал свои плоды, особенно в среде молодежи, падкой на "запретный плод".
Запад уже своим существованием притягивал меня как таинственная "другая сторона Луны", о которой простой смертный мог тогда лишь знать, что она есть и что ее никогда нельзя увидеть с нашей Земли‒СССР, очерченной на политической карте мiра толстой красной границей. Пришельцы оттуда – свободнорожденные, раскованные интуристы – казались чудом с сияющей аурой небожителей...
В СССР появились поклонники западного образа жизни, так называемые "стиляги", приобретавшие втридорога западную одежду у фарцовщиков (особенно символическими были джинсы), выросла популярность джаза и другой западной музыки, западное радио в обзорах западной прессы об СССР сообщало о деятельности диссидентов и, в частности, о выставках художников-нонконформистов, почти все объявленные выставки которых я посещал (и даже уже в Германии обнаружил себя в журнале "Штерн" на фотографии посетителей такой выставки: с задумчивым видом я сижу перед одной из картин, установленной на земле).
Конечно, к настоящему искусству это вряд ли имело отношение: подавляющее большинство художников-нонконформистов (как их называли радиоголоса, сообщая также о месте и времени проведения выставок) просто руководствовались протестом против "социалистического реализма" и были подражателями западному "современному искусству" ‒ от разных форм абстракционизма до сюрреализма и "примитивной живописи". Но именно эта "несоветскость" и была притягательной для меня и всей нашей компании. Некоторые из нее даже стали общаться с О. Рабиным и другими его сподвижниками ‒ они потом нашли признание и известность на Западе. А власть разогнала лишь первую такую выставку в сентябре 1974 года, названную "бульдозерной", потому что против нее были использованы поливальные машины и бульдозеры.
Поскольку я был провинциалом и в моей речи был заметен южный ставропольский акцент, я в Москве этого стеснялся и старался подражать москвичам в одежде и поведении, особенно так называемой "золотой молодежи" из высокопоставленных семей, какой в нашем "элитном" заведении было много. Думаю, иногда это выглядело смешно и порою побуждало меня к глупой развязности в общении с людьми, которая мне казалась признаком столичной "цивилизованности".
Относительно своей институтской "карьеры" повторю необходимую информацию из упомянутой моей статьи об "альма матер". В нашей группе (а они в инязе были маленькими: 10-12 человек), я оказался старшим по возрасту и обладателем некоторого жизненного опыта, так что на фоне вчерашних школьников-юнцов наш групповой руководитель П.Н. Куриленко назначил меня старостой группы. А поскольку он был заместителем декана ‒ ему было удобно, чтобы я стал и старостой курса, чтобы вести для него статистику посещаемости и успеваемости на основании всех групповых журналов. Этой "секретарской" работы было немного, меня она не тяготила, ибо к идеологическим комсомольским структурам не имела никакого отношения, но позволяла прогуливать неинтересные (идеологические) предметы, а экзамены по ним я сдавал благодаря хорошей тогда памяти на тексты, аврально прочитываемые перед сессией (у меня все годы была повышенная стипендия, разумеется, по показателям успеваемости).
О нашем антисоветском кружке к сказанному в той статье добавлю, что я в нем был "демократом" (вместе с евреем Мишей Гребневым, сыном известного переводчика), тогда как остальные были "монархистами". Мы часто собирались у Жени Соколова в Банном переулке, слушали пластинки немца Ивана Реброффа (русские народные песни и романсы).
Монархизм их заключался в ностальгии по царской России, то есть имел положительный идеал. У меня было наоборот: я стал демократом-нигилистом, отталкиваясь от советского анти-идеала и вранья, когда оно превысило критический порог в моем жизненном опыте. А мой "демократический идеал" был не столько положительным (за что: "за свободу" вообще), сколько отрицательным (против чего), его сформировали зарубежные радиоголоса, педалировавшие права человека.
Над моим письменным столом висел текст "В защиту достоинства человека" Рене Майо, генерального директора Юнеско ‒ вырезанная вторая страница обложки журнала "Курьер Юнеско" (ноябрь 1968 г.). В нем я подчеркнул красным карандашом слова: «Необходимо пробудить и настроить сознание на мысль о правах человека, которая возникает далеко не инстинктивно и не так уж свойствена человеку, как обычно считают или делают вид, что считают... В некоторых странах и в некоторых кругах считают, что эти права потеряли и смысл и силу в эпоху революций, когда сегодняшние счастье и справедливость приносятся в жертву во имя будущего счастья и процветания» (Выступление на Международной конференции в защиту прав человека. Тегеран, 223 апреля 1968). Этот журнал был в Москве показательно разрешен в открытой продаже в некоторых киосках близ иностранных посольств.
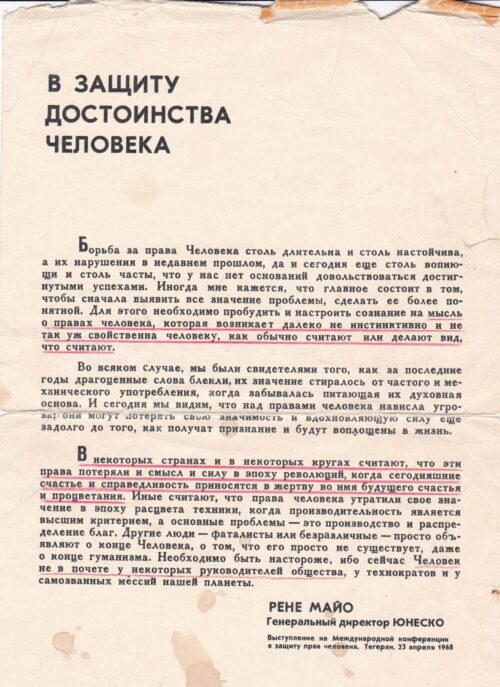
Свою "антисоветскость" мы любили выражать в мелком "хулиганстве", например, надписями в туалетных кабинках наподобие такой: «Сегодня узнал по секрету от Юдинцева (замдекана, кагебэшник), что Брежнев жопа. ‒ Мельников» (Мельников был другим замдекана). Надпись эту не стирали в течении года, закрасили лишь при плановом ремонте, что свидетельствовало о ее популярности. На праздники на белых этикетках "Советского" шампанского я черной тушью (такие чернильцы были на столах в почтамте) добавлял к названию аккуратную приставку "Анти" таким же прописным шрифтом. Примечателен мой проездной билет на электричку с выдуманной фамилией "Диссидент" (я спонтанно назвал его в билетной кассе, оформляя билет, кассирша улыбнулась, но возражать не стала).

Фото сделано после возвращения из ГДР, в институте бороду носить не разрешалось, предписывалась короткая стрижка и на военной кафедре также костюм с галстуком (нас приучали к профессиональному виду переводчика).
Едины мы были в любимом занятии: ругать советскую власть и мечтать об эмиграции на Запад. Почти все там и оказались ‒ но из всех я в эмиграции стал самым "правым", а наш самый православный Андрей Бессмертный, в то время духовное чадо о. Александра Меня, эмигрировав в США, превратился в жидовствующего русофоба, публично упрекавшего меня в "мракобесии" и "православном антисемитизме" и вызвавшего меня на диспут, который в течении года публиковался с продолжениями на моем сайте. Эту полемику я затем опубликовал отдельной книгой: Диспут Назарова с Кацманом о "православном антисемитизме".
Мы тогда оба дали краткие оценки и нашему институтскому антисоветскому кружку. Я упомянул о нем лишь кратко: «с ностальгической теплотой вспоминаю о нашей институтской компании: как легко и весело было нам ругать тупую и примитивную "совдепию", и как трудно оказалось затем пробиваться через завалы новой, всё более изощренной лжи – к настоящей Истине...».
Андрей, ставший в Америке «сотрудником Агентства по уменьшению угрозы при Министерстве обороны США», видимо, для придания себе авторитета в глазах американских начальников, пафосно рисует иную картину ‒ якобы мы активно "боролись" с советской властью:
«Напомню тебе, что мы не просто высмеивали коммунистическую систему – мы активно, хотя и разными способами, боролись с ней. Никто из нас не только не отошёл в сторону, не только не изменил нашему делу, но расширил и углубил свою деятельность, стараясь превратить её в как можно более эффективную. Ты по тем временам выбрал эмиграцию, это же были вынуждены сделать наши дорогие друзья и соратники (не стесняюсь этого слова, его не смогли испоганить даже большевики) Юра Боголепов, Женя Соколов, Коля Макаров и покойный Володя Ракитянский, равно как и писатель Саша Соколов. Другие – Володя Стабников, Серж Серебряков и я (называю не всех) принципиально остались в России для продолжения внутренней борьбы. Все позиции были оправданными, все или почти все продолжили своё дело и шли до конца...
За некоторое время до того, как сложилась наша дружная и ультра-антикоммунистическая компания (поэтому ты не можешь этого знать) я в течение ряда месяцев был близок с учившейся на параллельном курсе того же московского Инъяза Лерой Новодворской... Она была (как и ты сегодня) в своём роде радикалкой, только леводемократического направления... Валерия требовала мгновенных решительных действий. Я был категорически против этого и настаивал на привлечении как можно большего количества членов (в том числе и в других городах) и на систематических подпольных партизанских действиях. Если бы я хотел действовать открыто, я бы просто присоединился к существовавшему тогда диссидентскому движению...
МЫ С ТОБОЙ ПОБЕДИЛИ. Коммунистическая система скомпрометирована и ликвидирована, хотя её последствия ещё будут долго сказываться на пострадавших странах и народах, а отдельные временные вспышки эпигонов коммунизма остаются возможными в различных периферийных странах мира. Империя зла под названием СССР – сатанинская имитация подлинной империи – распалась с позором. Теперь Россия (Великороссия), сумев сохранить свою историческую территорию и основные человеческие и материальные ресурсы, может начать жить свободной жизнью, хотя пока ещё и не понимает, как. Понимание придёт. Отпавшие от России братские страны пройдут через необходимый опыт отдельного существования и вернутся к России не в качестве её владений, а в качестве её верных друзей и союзников. Православная церковь и другие религии больше не преследуются. Церкви возвращается её достоинство и имущество. У неё вновь есть возможность стать государственной религией – при полном равенстве всех религий перед законом. Верующие перестали быть людьми третьего сорта. Цель моей жизни была трояка: ликвидация коммунистической системы, ликвидация СССР и свобода Церкви и верующих. Все три цели осуществлены. Начало положено. Мы с тобой победили, потому что наши цели были доброкачественными и истинными, и потому, что над их осуществлением трудились очень многие силы и в России и в мире».
После этого между нами завязалась полемика, в которой я настаивал, что одного лишь отрицания коммунистической власти недостаточно для уразумения смысла жизни и смысла истории, и что "победа" над коммунизмом состоялась в пользу врагов исторической России под их влиянием, которые лукаво ввергли нашу страну в новый виток катастрофы. И далее я излагаю ему свое понимание мiровой расстановки сил и суть строящегося Нового мiрового порядка ‒ это я понял уже в эмиграции благодаря ее опыту.
Тем не менее, наш антисоветский кружок предохранил нас от покорности коммунистическому режиму и от участия в его богопротивной программе "преобразования мiра" во всечеловеческий муравейник, оставив нам возможность, отталкиваясь от этой лжи, искать путь Истины. В этом была главная ценность нашей "ультра-антикоммунистической компании". Вернусь к некоторым эпизодам в личной своей студенческой биографии.

Отмечу работу в стройотряде на Енисее в 1971 по окончании первого курса, где мы в 30 км к северу от устья Ангары строили бревнотаску в Маклаково (теперь это город Лесосибирск). Работали до 14 часов в день, спали в палатках, первые две недели сильно страдали от комаров (потом к ним выработался "иммунитет") и днем от паутов-кровопийцев с размахом крыльев до 5 см. В один из дождливых дней я поскользнулся на бревенчатой конструкции и упал, едва при этом не отрубив себе нос упавшим сверху моим же топором (нос раскроило, но почти отсеченная часть была прилеплена повязкой и прижилась, даже шрам позже стал малозаметен). Поскольку мы тратили много физической энергии, постоянно хотелось есть, и мы покупали в местном магазинчике слежавшиеся подушечки с повидлом, я стал покуривать вместе со всеми (в Москве наше практичное руководство взяло на табачной фабрике большой картонный ящик бракованных сигаретных обрезков). Мои трудовые навыки, приобретенные еще в строительстве родительского дома, были замечены начальником-инженером, и мне поручали наиболее ответственные задания, а в конце выставили высшую оценку с максимальным вознаграждением ‒ 1000 рублей.
С Енисея я не стал вместе со всеми возвращаться в Москву, а посетил Новокузнецк. В этот раз я уже много расспрашивал бабушку о моем "белом" деде-офицере Назарове и был очень расстроен тем, что не сохранилось его фотографии. Часть из них бабушка, видимо, уничтожила сама (в то страшное время так делали во многих семьях "бывших", опасаясь арестов за происхождение и родственные связи), а спрятанные были уничтожены наводнением. Дядя Юра отнесся к моему антисоветскому настрою с симпатией. Наши антисоветские беседы проходили за распитием дешевого крепленого вина "Солнцедар", которое в СССР в огромных количествах делалось из алжирского виноматериала, привозимого танкерами в Новороссийск, где по винопроводу его перегоняли на местный винзавод, добавляли свекольный сахар для вкуса и этиловый спирт для крепости (это "вино" прозвали "бормотухой").
Мы снова с дядями ездили в Околь и дальше в тайгу к их знакомому шорцу, который поразил меня тем, что не мыл посуду, а давал ее вылизывать собакам. (Сейчас мы, несмотря на то, что жена ‒ редкостная чистюля, тоже, бывает, даем свои тарелки кошкам, которых у нас собралось около 20 из окрестностей, правда, тарелки эти всегда тщательно моются.)
Вернувшись в Москву, где получил заработанную тысячу рублей, я узнал, что мои однокашники поехали на море в Гагры, и отправился туда, надеясь их найти на пляже или в туристических местах. В первый день это не удалось, хотя я весь день бродил по городу. Вечером в парке ко мне подошел молодой человек, завязал разговор, и узнав, что я из Москвы и еще не нашел, где остановиться, пригласил в свою компанию. Сначала мы поехали на ужин в стоявший на запасных путях вагон-ресторан его друзей, затем к ним домой где-то за городом. Оказалось, что они гомосексуалисты. Поскольку я отверг их попытку сближения, они ночью занимались сами собой, а для меня это была очень неприятная ночь, но уйти неизвестно куда ночью было рискованно. (Гомосексуализм был не редкостью и в нашем институте, с чем мне пришлось столкнуться на первом курсе, и после терпеливых попыток не прерывать общения с одним таким новым другом С., всё же мы расстались со скандалом, так как сама мысль об этой его склонности вызывала у меня отвращение.)
Большую часть заработанных в стройотряде денег я бездумно и щедро потратил в Гаграх на ежедневное кафе (где нам к обеду охлаждали бутылку "Цинандали") вместе с Г. Кульбицким, который, однако, в отличие от меня, благоразумно отдал свой заработок матери. Потом отец справедливо упрекнул меня за это: мог бы хотя бы часть денег дать пашущим в поте лица родителям для хозяйственных нужд. Было стыдно. Из Гагр я возвращался в купе с ребятами, но ради "спортивного интереса" ‒ зайцем, выдавая себя за пассажира из другого вагона, а спал на третьей верхней полке для багажа.
Но, в отличие от нашей антисоветской компании, ни с кем из нашей немецкой группы после института я связь не поддерживал. (Поиск фамилий в интернете обнаруживает фамилии некоторых как авторов филологических трудов и учебников.)
Из всех институтских предметов мне более всего запомнились лекции А.Я. Шайкевича по языкознанию, которые увлекли меня философией языка (я был одним из немногих, даже, возможно, единственным на курсе, которому Анатолий Янович поставил на экзамене пятерку, и на меня как на диковинку студенты приходили смотреть), и была интересна история Германии Чистякова.
В области приобретения новых знаний я уже писал ("Опыт моей философской биографии"), что увлекался чтением советской критики "буржуазных теорий" и домысливал их, в частности философию экзистенциализма, смог на пару месяцев получить допуск в спецхран Библиотеки иностранной литературы. Пытался писать рассказы и "экзистенциальные" зарисовки ‒ об этом есть отдельная моя статья: "Опыт моей писательской биографии".
В то время я был неверующим, точнее ‒ абсурдистом, считавшим, что в мiре нет единого смысла: он абсурден. Атеизм не мог не сказываться и в моем поведении, в том числе в "женском вопросе". К сожалению, Оля с Диксона ко мне в Москву не прилетела, как я надеялся, наша переписка с ней стала почему-то пропадать (мы обменивались фотографиями, но они не всегда доходили, я подозревал, что кто-то на диксонской почте мог этому мешать намеренно), а в последних письмах она написала о своем знакомстве с М., описывая его взгляды как схожие с моими антисоветскими. Уже когда я женился на Лене, мы случайно встретили Олю с ее мужем М. в Москве в метро при посещении диссидентской выставки художников-нонкорформистов в Измайловском парке в 1973 году... Но больше с ней не общались даже по телефону. (После возвращения в Москве в 1994 году позвонил по ее тогдашнему телефону, но ее муж грубо отшил меня, обругав и ее, и заблокировал мой номер телефона.)
Сделаю тут еще одно, последнее, отступление на "женскую тему". Я уже писал, вспоминая смешной "взаимно-просветительский" эпизод с макеевской Людой, что половое влечение заложено в природе земного грешного человека, и хотя оно считается плотским наследием первородного греха, оно не отвергается Церковью. Иначе уже после первых потомков Адама и Евы человечество вымерло бы и никакой дальнейшей истории не было бы, не было бы и тех святых, которые призваны заселить Царство Небесное. В Священном Писании Бог, создав мужчину и женщину, благословил их и сказал: «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею» (Быт. 1: 27-28).
Лишь немногим избранным свыше дано полностью преодолеть это влечение плоти на пути монашеского служения Богу, стремясь к максимально возможному ограничению в себе животной природы для приближения к святости. Но в сонме святых признано и немало семейных, православному священству даже предписано супружество (в отличие от безбрачия у католического духовенства, что нередко становилось причиной его сексуальных грехов). Это свидетельствует о том, что половое чувство человека может быть освящено при определенных условиях (что особенно поучительно выражено в истории святых Петра и Февронии).
В те годы своей молодости, будучи человеком неверующим и духовно необразованным, я не имел об этом представления, полагая, что для правильных взаимоотношений с женщиной достаточна взаимная верная любовь, и романтически ждал ее, не довольствуясь чисто половым инстинктом, осуществить который на практике мог бы не раз, но от этого удерживало ощущение профанического несовершенства ‒ не так мне представлялось раскрытие великой женской тайны, что и произошло на Диксоне. (Повторю, что в техникуме я был вообще "платонически" влюблен в нашу классную руководительницу В.П., но сознавая невозможность дальнейшего, после окончания техникума перенес эту влюбленность на ее младшую сестру, опять-таки без стремления к половой близости. Это было странное состояние...)
Но и от этого инстинкта никуда не было деться. А он во многом влияет на то, как у человека складывается биография и его судьба.
Вот и мой первый, студенческий, брак хотя и имел романтические черты (Лена была из театральной семьи, красивая, имела чувство эстетики и художественный талант, очевидный в ее рисунках, который она так и не реализовала, ибо не прилагала к тому своего волевого усилия), однако наш брак оказался незапланированным, вынужденным из-за ее беременности. Это уже стало для меня неизменяемой вехой судьбы, так как я не мог допустить такого, чтобы отказаться от своего ребенка и чтобы он воспитывался кем-то другим. Не знаю, как сложилась бы моя жизнь, если бы я принял другое решение, вряд ли я мог бы дальше жить с чистой совестью ‒ видимо, так мне "было суждено" как акт моего выбора судьбы, как акт осознания моего несовершенства в несовершенном мiре, над которым я не властен своими романтическими представлениями о браке.
Для Елены наш брак также был вынужденным, хотя мы были сближены стремлением увидеть запретный западный мiр. Готовясь к побегу из СССР, мы с Леной ездили прощаться с родителями в Ставрополь, к моим родственникам в Новокузнецк, и вообще много путешествовали: были в Риге и Таллине, в Киеве. (Деньги на эти поездки я "заработал", с помощью подопечных немцев купив в "Березке" десяток книг М. Булгакова и продав их на книжной толкучке у памятника первопечатнику Федорову.) Совершили поездку на теплоходе из Ярославля по Волге и по каналам до Вытегры, а затем уже своим ходом "на перекладных" (катер, грузовик с тюками постельного белья) добрались до о. Кижи на Онежском озере, оттуда через Петрозаводск в Ленинград. На Кавказе прошли из Домбая через Клухорский перевал к Сухуми и, нарочно взяв с собою только 35 рублей, возвращались в Ставрополь моим любимым способом ‒ зайцами в приморских электричках или договариваясь с проводницами.
Мы были сближены и дальнейшими переменами в жизни, связавшими нас эмиграцией. Поэтому по мере воцерковления я пытался всё же создать с Леной правильную семью с духовной точки зрения, мы родили в эмиграции еще двоих хороших детей, затем развелись во Франкфурте и снова женились в Мюнхене, но Лена не захотела венчания, а наши разные характеры и разные жизненные цели не дали осуществиться желанной гармонии. Больше я не буду касаться этой темы в своих воспоминаниях.
Я вообще счел возможным затронуть "женскую тему", начиная с макеевского инстинктивного любопытства, как достаточно важную часть жизненного опыта, о котором мы обычно стесняемся говорить, но он оказывает огромное влияние на нашу жизнь, порою решительно определяя ее ход и судьбу...
Более существенное мое описание институтской жизни, особенно на последних курсах, включая семестр в ГДР, уже изложено в упомянутой статье "Москва ‒ Алжир ‒ Мюнхен. Опыт моей переводческой биографии" (https://rusidea.org/250958163). Она может служить продолжением вышесказанного.
Надеюсь, что Женя Соколов и Юра Боголепов напишут более подробные воспоминания о нашей студенческой молодости в МГПИИЯ. В целом, помимо увлекательного сопротивления Машине, в нашей студенческой жизни было много интересного: театры, выставки, познавательная литература, поездки, знакомства и общение с интересными людьми, дружба ‒ то, чем дорога молодость большинству людей.
(Напоминаю, что всё биографическое, что я выкладываю на форуме - черновики, которые нуждаются в доработке, просто это более надежное место их сохранения, чем компьютер.)
В Москве я всё же первым делом направился в приемную комиссию МГИМО (Московского Государственного института международных отношений), где, разумеется, получил окончательный отказ в приеме документов от пожилого вежливого кадровика (обычно на этих должностях работали готовившиеся выйти на пенсию кагебисты). Однако диксонская комсомольская рекомендация была достаточна для поступления в иняз, который в моем "рейтинге" стоял на втором месте, и там мои документы приняли. Так со второй попытки, уже по техникумовскому диплому и с "заслуженным" трехлетним трудовым стажем, я успешно сдал экзамены (две пятерки и две четверки) и стал студентом переводческого факультета МГПИИЯ.

Московский институт иностранных языков имени французского коммуниста Мориса Тореза помещался в этом бывшем особняке московского губернатора П.Д. Еропкина, который жил здесь до 1805 года. Дом достался в наследство его родственникам Новосильцевым, а затем перешёл во владение князей Гагариных. В этом здании бывали А.С. Пушкин, И.А. Гончаров, С.М. Соловьев. Здание имело очень сложную внутреннюю архитектуру разных уровней со множеством переходов, что в моем представлении было иллюстрацией к Кафке, который меня тогда увлек своим абсурдизмом (я его выбрал и для своей дипломной работы). На скучных комсомольских собраниях моим головоломным занятием было составление в уме полного плана здания. Он мне иногда снится...
Главное политическое содержание этих лет я уже описал в статье "1975: Москва ‒ Алжир ‒ Мюнхен. Опыт моей переводческой биографии" (уделив внимание своим неприятным взаимоотношениям с КГБ, распределению в Алжир и побегу оттуда), так что сейчас ограничусь дополнительным фоном тех студенческих лет, кое-что повторяя, без чего тут нельзя обойтись. Если до сих пор, хотя я и не мог уклониться от воздействия советской государственной системы, но всё же она не так сильно на меня давила в личной жизни, теперь, в элитарном столичном вузе, готовившем "бойцов идеологического фронта", я попал в ее силовое поле, создаваемое какими-то мощными генераторами и принуждающее меня формировать жизнь по ее законам. Это была Машина, которая старалась сделать из меня винтик, задействовать в своем механизме, регламентируя всю мою жизнь, предписывая, что мне положено и что не положено знать, какую носить одежду, прическу ‒ и так уже на всю дальнейшую жизнь... Это вызывало мое ответное сопротивление (поскольку, напомню техникумовскую характеристику: я "отличался строптивостью характера").
Вспоминая прежний образ растущего "дерева", московский студенческий период своей биографии охарактеризую так: дерево осознало себя родившимся в Клетке, сквозь металлические прутья которой прорастали мои тянувшиеся к свету ветви, но не могли ее сломать, и освобождение от нее стало жизненным вызовом. Дерево страстно возжелало расти на свободе. Иначе при дальнейшем утолщении ствола прутья этой клетки впились бы в него, став его внутренним скелетом, определяющим его жизнь. Цель освобождения была возбуждающе заманчива, она ощущалась как главное испытание, на что ты вообще способен. Ставкой и наградой здесь была сама жизнь – даруемая нам один раз, и разве можно ее безсмысленно приносить в жертву Машине с ее Клеткой?.. ‒ Так я описал свое исходное ощущение замысленного тогда плана побега на Запад, в начале своей книги "Миссия русской эмиграции".
При этом дерево в своем напоре на прутья клетки еще не понимало духовного смысла свободы, порою отвергая и ее необходимые в любом обществе нормы, и связанную с этим ответственность, соблазняясь ложными дальними "лучами света". Ложь советской Системы нашла во мне благодатную почву для взращивания себе антисоветчика. Наверное, и антисоветчики были нужны Системе в качестве громоотвода для народного недовольства, чтобы сваливать на них свои просчеты и даже свой террор (как было при Ленине и Сталине с массовыми казнями "контрреволюционеров" и "врагов народа").
Впрочем, поначалу антисоветчиком я был еще не принципиальным идеологическим, а всего лишь индивидуалистом. Это выражено в стихотворении тех лет:
«Если бы я был американцем,
Я бы жил тогда роскошно,
Или был бы оборванцем,
Или еще как там можно,
Жил бы жизнью пестрой, шершавою,
Какою там люди живут.
Мне коммунизм не мешает,
Но разве меня поймут?..»
Уже в начале первого курса в 1970 году, помню, мы втроем (Гена Кульбицкий и Саша Редько) гуляли вечером по Новому Арбату и говорили на политические темы ‒ об идеологической лжи, цензуре и т.п. И решили: надо делать революцию! Причем это сказал не я, а Кульбицкий. (Он потом стал советским пропагандистом-корреспондентом ТАСС в Германии и в конце 1980-х, встретившись со мною на одном из "перестроечных" культурных советско-германских мероприятий в Мюнхене, осуждающе бросил мне: "Не понимаю, зачем ты это сделал", и сфотографировал меня, видимо, для передачи "туда, куда надо". Это пример того, во что Клетка может превратить людей, подчинившихся ее законам и сросшихся с ее прутьями.)
И еще курьезный случай: на том же первом курсе девушка одного из студентов нашей группы работала в каком-то архиве и однажды принесла оттуда "Программу НТС", которая показалась мне несерьезной, бутафорской, ‒ было это примерно в 1971 году. Мог ли я тогда предположить, что через несколько лет стану работать в этой махровой антисоветской организации, и принимать в нее меня будет сам ее глава...
В те годы в отношениях США и СССР была объявлена "разрядка", "Голос Америки" перестали глушить, и мы, студенты, его регулярно слушали. Завязав знакомство с продавщицей журнального киоска в центре Москвы, можно было приобретать иллюстрированный журнал "Америка". На таких же паритетных началах в западных странах продавался журнал "Советский Союз", расписывающий успехи советского строя, с соответствующими радиопередачами на иностранных языках. Велась советская пропаганда весьма топорно и навязчиво, тогда как западная привлекала именно ненавязчивой демонстрацией свободы и высокого уровня жизни, ее интересным разнообразием. И этот просчет советской власти давал свои плоды, особенно в среде молодежи, падкой на "запретный плод".
Запад уже своим существованием притягивал меня как таинственная "другая сторона Луны", о которой простой смертный мог тогда лишь знать, что она есть и что ее никогда нельзя увидеть с нашей Земли‒СССР, очерченной на политической карте мiра толстой красной границей. Пришельцы оттуда – свободнорожденные, раскованные интуристы – казались чудом с сияющей аурой небожителей...
В СССР появились поклонники западного образа жизни, так называемые "стиляги", приобретавшие втридорога западную одежду у фарцовщиков (особенно символическими были джинсы), выросла популярность джаза и другой западной музыки, западное радио в обзорах западной прессы об СССР сообщало о деятельности диссидентов и, в частности, о выставках художников-нонконформистов, почти все объявленные выставки которых я посещал (и даже уже в Германии обнаружил себя в журнале "Штерн" на фотографии посетителей такой выставки: с задумчивым видом я сижу перед одной из картин, установленной на земле).
Конечно, к настоящему искусству это вряд ли имело отношение: подавляющее большинство художников-нонконформистов (как их называли радиоголоса, сообщая также о месте и времени проведения выставок) просто руководствовались протестом против "социалистического реализма" и были подражателями западному "современному искусству" ‒ от разных форм абстракционизма до сюрреализма и "примитивной живописи". Но именно эта "несоветскость" и была притягательной для меня и всей нашей компании. Некоторые из нее даже стали общаться с О. Рабиным и другими его сподвижниками ‒ они потом нашли признание и известность на Западе. А власть разогнала лишь первую такую выставку в сентябре 1974 года, названную "бульдозерной", потому что против нее были использованы поливальные машины и бульдозеры.
Поскольку я был провинциалом и в моей речи был заметен южный ставропольский акцент, я в Москве этого стеснялся и старался подражать москвичам в одежде и поведении, особенно так называемой "золотой молодежи" из высокопоставленных семей, какой в нашем "элитном" заведении было много. Думаю, иногда это выглядело смешно и порою побуждало меня к глупой развязности в общении с людьми, которая мне казалась признаком столичной "цивилизованности".
Относительно своей институтской "карьеры" повторю необходимую информацию из упомянутой моей статьи об "альма матер". В нашей группе (а они в инязе были маленькими: 10-12 человек), я оказался старшим по возрасту и обладателем некоторого жизненного опыта, так что на фоне вчерашних школьников-юнцов наш групповой руководитель П.Н. Куриленко назначил меня старостой группы. А поскольку он был заместителем декана ‒ ему было удобно, чтобы я стал и старостой курса, чтобы вести для него статистику посещаемости и успеваемости на основании всех групповых журналов. Этой "секретарской" работы было немного, меня она не тяготила, ибо к идеологическим комсомольским структурам не имела никакого отношения, но позволяла прогуливать неинтересные (идеологические) предметы, а экзамены по ним я сдавал благодаря хорошей тогда памяти на тексты, аврально прочитываемые перед сессией (у меня все годы была повышенная стипендия, разумеется, по показателям успеваемости).
О нашем антисоветском кружке к сказанному в той статье добавлю, что я в нем был "демократом" (вместе с евреем Мишей Гребневым, сыном известного переводчика), тогда как остальные были "монархистами". Мы часто собирались у Жени Соколова в Банном переулке, слушали пластинки немца Ивана Реброффа (русские народные песни и романсы).
Монархизм их заключался в ностальгии по царской России, то есть имел положительный идеал. У меня было наоборот: я стал демократом-нигилистом, отталкиваясь от советского анти-идеала и вранья, когда оно превысило критический порог в моем жизненном опыте. А мой "демократический идеал" был не столько положительным (за что: "за свободу" вообще), сколько отрицательным (против чего), его сформировали зарубежные радиоголоса, педалировавшие права человека.
Над моим письменным столом висел текст "В защиту достоинства человека" Рене Майо, генерального директора Юнеско ‒ вырезанная вторая страница обложки журнала "Курьер Юнеско" (ноябрь 1968 г.). В нем я подчеркнул красным карандашом слова: «Необходимо пробудить и настроить сознание на мысль о правах человека, которая возникает далеко не инстинктивно и не так уж свойствена человеку, как обычно считают или делают вид, что считают... В некоторых странах и в некоторых кругах считают, что эти права потеряли и смысл и силу в эпоху революций, когда сегодняшние счастье и справедливость приносятся в жертву во имя будущего счастья и процветания» (Выступление на Международной конференции в защиту прав человека. Тегеран, 223 апреля 1968). Этот журнал был в Москве показательно разрешен в открытой продаже в некоторых киосках близ иностранных посольств.
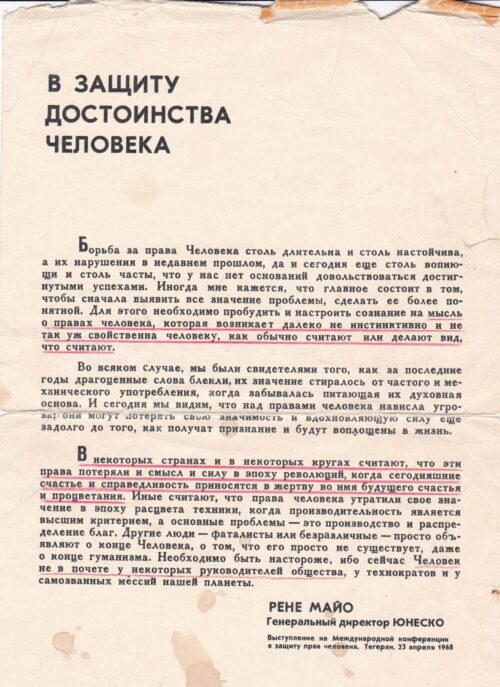
Свою "антисоветскость" мы любили выражать в мелком "хулиганстве", например, надписями в туалетных кабинках наподобие такой: «Сегодня узнал по секрету от Юдинцева (замдекана, кагебэшник), что Брежнев жопа. ‒ Мельников» (Мельников был другим замдекана). Надпись эту не стирали в течении года, закрасили лишь при плановом ремонте, что свидетельствовало о ее популярности. На праздники на белых этикетках "Советского" шампанского я черной тушью (такие чернильцы были на столах в почтамте) добавлял к названию аккуратную приставку "Анти" таким же прописным шрифтом. Примечателен мой проездной билет на электричку с выдуманной фамилией "Диссидент" (я спонтанно назвал его в билетной кассе, оформляя билет, кассирша улыбнулась, но возражать не стала).

Фото сделано после возвращения из ГДР, в институте бороду носить не разрешалось, предписывалась короткая стрижка и на военной кафедре также костюм с галстуком (нас приучали к профессиональному виду переводчика).
Едины мы были в любимом занятии: ругать советскую власть и мечтать об эмиграции на Запад. Почти все там и оказались ‒ но из всех я в эмиграции стал самым "правым", а наш самый православный Андрей Бессмертный, в то время духовное чадо о. Александра Меня, эмигрировав в США, превратился в жидовствующего русофоба, публично упрекавшего меня в "мракобесии" и "православном антисемитизме" и вызвавшего меня на диспут, который в течении года публиковался с продолжениями на моем сайте. Эту полемику я затем опубликовал отдельной книгой: Диспут Назарова с Кацманом о "православном антисемитизме".
Мы тогда оба дали краткие оценки и нашему институтскому антисоветскому кружку. Я упомянул о нем лишь кратко: «с ностальгической теплотой вспоминаю о нашей институтской компании: как легко и весело было нам ругать тупую и примитивную "совдепию", и как трудно оказалось затем пробиваться через завалы новой, всё более изощренной лжи – к настоящей Истине...».
Андрей, ставший в Америке «сотрудником Агентства по уменьшению угрозы при Министерстве обороны США», видимо, для придания себе авторитета в глазах американских начальников, пафосно рисует иную картину ‒ якобы мы активно "боролись" с советской властью:
«Напомню тебе, что мы не просто высмеивали коммунистическую систему – мы активно, хотя и разными способами, боролись с ней. Никто из нас не только не отошёл в сторону, не только не изменил нашему делу, но расширил и углубил свою деятельность, стараясь превратить её в как можно более эффективную. Ты по тем временам выбрал эмиграцию, это же были вынуждены сделать наши дорогие друзья и соратники (не стесняюсь этого слова, его не смогли испоганить даже большевики) Юра Боголепов, Женя Соколов, Коля Макаров и покойный Володя Ракитянский, равно как и писатель Саша Соколов. Другие – Володя Стабников, Серж Серебряков и я (называю не всех) принципиально остались в России для продолжения внутренней борьбы. Все позиции были оправданными, все или почти все продолжили своё дело и шли до конца...
За некоторое время до того, как сложилась наша дружная и ультра-антикоммунистическая компания (поэтому ты не можешь этого знать) я в течение ряда месяцев был близок с учившейся на параллельном курсе того же московского Инъяза Лерой Новодворской... Она была (как и ты сегодня) в своём роде радикалкой, только леводемократического направления... Валерия требовала мгновенных решительных действий. Я был категорически против этого и настаивал на привлечении как можно большего количества членов (в том числе и в других городах) и на систематических подпольных партизанских действиях. Если бы я хотел действовать открыто, я бы просто присоединился к существовавшему тогда диссидентскому движению...
МЫ С ТОБОЙ ПОБЕДИЛИ. Коммунистическая система скомпрометирована и ликвидирована, хотя её последствия ещё будут долго сказываться на пострадавших странах и народах, а отдельные временные вспышки эпигонов коммунизма остаются возможными в различных периферийных странах мира. Империя зла под названием СССР – сатанинская имитация подлинной империи – распалась с позором. Теперь Россия (Великороссия), сумев сохранить свою историческую территорию и основные человеческие и материальные ресурсы, может начать жить свободной жизнью, хотя пока ещё и не понимает, как. Понимание придёт. Отпавшие от России братские страны пройдут через необходимый опыт отдельного существования и вернутся к России не в качестве её владений, а в качестве её верных друзей и союзников. Православная церковь и другие религии больше не преследуются. Церкви возвращается её достоинство и имущество. У неё вновь есть возможность стать государственной религией – при полном равенстве всех религий перед законом. Верующие перестали быть людьми третьего сорта. Цель моей жизни была трояка: ликвидация коммунистической системы, ликвидация СССР и свобода Церкви и верующих. Все три цели осуществлены. Начало положено. Мы с тобой победили, потому что наши цели были доброкачественными и истинными, и потому, что над их осуществлением трудились очень многие силы и в России и в мире».
После этого между нами завязалась полемика, в которой я настаивал, что одного лишь отрицания коммунистической власти недостаточно для уразумения смысла жизни и смысла истории, и что "победа" над коммунизмом состоялась в пользу врагов исторической России под их влиянием, которые лукаво ввергли нашу страну в новый виток катастрофы. И далее я излагаю ему свое понимание мiровой расстановки сил и суть строящегося Нового мiрового порядка ‒ это я понял уже в эмиграции благодаря ее опыту.
Тем не менее, наш антисоветский кружок предохранил нас от покорности коммунистическому режиму и от участия в его богопротивной программе "преобразования мiра" во всечеловеческий муравейник, оставив нам возможность, отталкиваясь от этой лжи, искать путь Истины. В этом была главная ценность нашей "ультра-антикоммунистической компании". Вернусь к некоторым эпизодам в личной своей студенческой биографии.

Отмечу работу в стройотряде на Енисее в 1971 по окончании первого курса, где мы в 30 км к северу от устья Ангары строили бревнотаску в Маклаково (теперь это город Лесосибирск). Работали до 14 часов в день, спали в палатках, первые две недели сильно страдали от комаров (потом к ним выработался "иммунитет") и днем от паутов-кровопийцев с размахом крыльев до 5 см. В один из дождливых дней я поскользнулся на бревенчатой конструкции и упал, едва при этом не отрубив себе нос упавшим сверху моим же топором (нос раскроило, но почти отсеченная часть была прилеплена повязкой и прижилась, даже шрам позже стал малозаметен). Поскольку мы тратили много физической энергии, постоянно хотелось есть, и мы покупали в местном магазинчике слежавшиеся подушечки с повидлом, я стал покуривать вместе со всеми (в Москве наше практичное руководство взяло на табачной фабрике большой картонный ящик бракованных сигаретных обрезков). Мои трудовые навыки, приобретенные еще в строительстве родительского дома, были замечены начальником-инженером, и мне поручали наиболее ответственные задания, а в конце выставили высшую оценку с максимальным вознаграждением ‒ 1000 рублей.
С Енисея я не стал вместе со всеми возвращаться в Москву, а посетил Новокузнецк. В этот раз я уже много расспрашивал бабушку о моем "белом" деде-офицере Назарове и был очень расстроен тем, что не сохранилось его фотографии. Часть из них бабушка, видимо, уничтожила сама (в то страшное время так делали во многих семьях "бывших", опасаясь арестов за происхождение и родственные связи), а спрятанные были уничтожены наводнением. Дядя Юра отнесся к моему антисоветскому настрою с симпатией. Наши антисоветские беседы проходили за распитием дешевого крепленого вина "Солнцедар", которое в СССР в огромных количествах делалось из алжирского виноматериала, привозимого танкерами в Новороссийск, где по винопроводу его перегоняли на местный винзавод, добавляли свекольный сахар для вкуса и этиловый спирт для крепости (это "вино" прозвали "бормотухой").
Мы снова с дядями ездили в Околь и дальше в тайгу к их знакомому шорцу, который поразил меня тем, что не мыл посуду, а давал ее вылизывать собакам. (Сейчас мы, несмотря на то, что жена ‒ редкостная чистюля, тоже, бывает, даем свои тарелки кошкам, которых у нас собралось около 20 из окрестностей, правда, тарелки эти всегда тщательно моются.)
Вернувшись в Москву, где получил заработанную тысячу рублей, я узнал, что мои однокашники поехали на море в Гагры, и отправился туда, надеясь их найти на пляже или в туристических местах. В первый день это не удалось, хотя я весь день бродил по городу. Вечером в парке ко мне подошел молодой человек, завязал разговор, и узнав, что я из Москвы и еще не нашел, где остановиться, пригласил в свою компанию. Сначала мы поехали на ужин в стоявший на запасных путях вагон-ресторан его друзей, затем к ним домой где-то за городом. Оказалось, что они гомосексуалисты. Поскольку я отверг их попытку сближения, они ночью занимались сами собой, а для меня это была очень неприятная ночь, но уйти неизвестно куда ночью было рискованно. (Гомосексуализм был не редкостью и в нашем институте, с чем мне пришлось столкнуться на первом курсе, и после терпеливых попыток не прерывать общения с одним таким новым другом С., всё же мы расстались со скандалом, так как сама мысль об этой его склонности вызывала у меня отвращение.)
Большую часть заработанных в стройотряде денег я бездумно и щедро потратил в Гаграх на ежедневное кафе (где нам к обеду охлаждали бутылку "Цинандали") вместе с Г. Кульбицким, который, однако, в отличие от меня, благоразумно отдал свой заработок матери. Потом отец справедливо упрекнул меня за это: мог бы хотя бы часть денег дать пашущим в поте лица родителям для хозяйственных нужд. Было стыдно. Из Гагр я возвращался в купе с ребятами, но ради "спортивного интереса" ‒ зайцем, выдавая себя за пассажира из другого вагона, а спал на третьей верхней полке для багажа.
Но, в отличие от нашей антисоветской компании, ни с кем из нашей немецкой группы после института я связь не поддерживал. (Поиск фамилий в интернете обнаруживает фамилии некоторых как авторов филологических трудов и учебников.)
Из всех институтских предметов мне более всего запомнились лекции А.Я. Шайкевича по языкознанию, которые увлекли меня философией языка (я был одним из немногих, даже, возможно, единственным на курсе, которому Анатолий Янович поставил на экзамене пятерку, и на меня как на диковинку студенты приходили смотреть), и была интересна история Германии Чистякова.
В области приобретения новых знаний я уже писал ("Опыт моей философской биографии"), что увлекался чтением советской критики "буржуазных теорий" и домысливал их, в частности философию экзистенциализма, смог на пару месяцев получить допуск в спецхран Библиотеки иностранной литературы. Пытался писать рассказы и "экзистенциальные" зарисовки ‒ об этом есть отдельная моя статья: "Опыт моей писательской биографии".
В то время я был неверующим, точнее ‒ абсурдистом, считавшим, что в мiре нет единого смысла: он абсурден. Атеизм не мог не сказываться и в моем поведении, в том числе в "женском вопросе". К сожалению, Оля с Диксона ко мне в Москву не прилетела, как я надеялся, наша переписка с ней стала почему-то пропадать (мы обменивались фотографиями, но они не всегда доходили, я подозревал, что кто-то на диксонской почте мог этому мешать намеренно), а в последних письмах она написала о своем знакомстве с М., описывая его взгляды как схожие с моими антисоветскими. Уже когда я женился на Лене, мы случайно встретили Олю с ее мужем М. в Москве в метро при посещении диссидентской выставки художников-нонкорформистов в Измайловском парке в 1973 году... Но больше с ней не общались даже по телефону. (После возвращения в Москве в 1994 году позвонил по ее тогдашнему телефону, но ее муж грубо отшил меня, обругав и ее, и заблокировал мой номер телефона.)
Сделаю тут еще одно, последнее, отступление на "женскую тему". Я уже писал, вспоминая смешной "взаимно-просветительский" эпизод с макеевской Людой, что половое влечение заложено в природе земного грешного человека, и хотя оно считается плотским наследием первородного греха, оно не отвергается Церковью. Иначе уже после первых потомков Адама и Евы человечество вымерло бы и никакой дальнейшей истории не было бы, не было бы и тех святых, которые призваны заселить Царство Небесное. В Священном Писании Бог, создав мужчину и женщину, благословил их и сказал: «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею» (Быт. 1: 27-28).
Лишь немногим избранным свыше дано полностью преодолеть это влечение плоти на пути монашеского служения Богу, стремясь к максимально возможному ограничению в себе животной природы для приближения к святости. Но в сонме святых признано и немало семейных, православному священству даже предписано супружество (в отличие от безбрачия у католического духовенства, что нередко становилось причиной его сексуальных грехов). Это свидетельствует о том, что половое чувство человека может быть освящено при определенных условиях (что особенно поучительно выражено в истории святых Петра и Февронии).
В те годы своей молодости, будучи человеком неверующим и духовно необразованным, я не имел об этом представления, полагая, что для правильных взаимоотношений с женщиной достаточна взаимная верная любовь, и романтически ждал ее, не довольствуясь чисто половым инстинктом, осуществить который на практике мог бы не раз, но от этого удерживало ощущение профанического несовершенства ‒ не так мне представлялось раскрытие великой женской тайны, что и произошло на Диксоне. (Повторю, что в техникуме я был вообще "платонически" влюблен в нашу классную руководительницу В.П., но сознавая невозможность дальнейшего, после окончания техникума перенес эту влюбленность на ее младшую сестру, опять-таки без стремления к половой близости. Это было странное состояние...)
Но и от этого инстинкта никуда не было деться. А он во многом влияет на то, как у человека складывается биография и его судьба.
Вот и мой первый, студенческий, брак хотя и имел романтические черты (Лена была из театральной семьи, красивая, имела чувство эстетики и художественный талант, очевидный в ее рисунках, который она так и не реализовала, ибо не прилагала к тому своего волевого усилия), однако наш брак оказался незапланированным, вынужденным из-за ее беременности. Это уже стало для меня неизменяемой вехой судьбы, так как я не мог допустить такого, чтобы отказаться от своего ребенка и чтобы он воспитывался кем-то другим. Не знаю, как сложилась бы моя жизнь, если бы я принял другое решение, вряд ли я мог бы дальше жить с чистой совестью ‒ видимо, так мне "было суждено" как акт моего выбора судьбы, как акт осознания моего несовершенства в несовершенном мiре, над которым я не властен своими романтическими представлениями о браке.
Для Елены наш брак также был вынужденным, хотя мы были сближены стремлением увидеть запретный западный мiр. Готовясь к побегу из СССР, мы с Леной ездили прощаться с родителями в Ставрополь, к моим родственникам в Новокузнецк, и вообще много путешествовали: были в Риге и Таллине, в Киеве. (Деньги на эти поездки я "заработал", с помощью подопечных немцев купив в "Березке" десяток книг М. Булгакова и продав их на книжной толкучке у памятника первопечатнику Федорову.) Совершили поездку на теплоходе из Ярославля по Волге и по каналам до Вытегры, а затем уже своим ходом "на перекладных" (катер, грузовик с тюками постельного белья) добрались до о. Кижи на Онежском озере, оттуда через Петрозаводск в Ленинград. На Кавказе прошли из Домбая через Клухорский перевал к Сухуми и, нарочно взяв с собою только 35 рублей, возвращались в Ставрополь моим любимым способом ‒ зайцами в приморских электричках или договариваясь с проводницами.
Мы были сближены и дальнейшими переменами в жизни, связавшими нас эмиграцией. Поэтому по мере воцерковления я пытался всё же создать с Леной правильную семью с духовной точки зрения, мы родили в эмиграции еще двоих хороших детей, затем развелись во Франкфурте и снова женились в Мюнхене, но Лена не захотела венчания, а наши разные характеры и разные жизненные цели не дали осуществиться желанной гармонии. Больше я не буду касаться этой темы в своих воспоминаниях.
Я вообще счел возможным затронуть "женскую тему", начиная с макеевского инстинктивного любопытства, как достаточно важную часть жизненного опыта, о котором мы обычно стесняемся говорить, но он оказывает огромное влияние на нашу жизнь, порою решительно определяя ее ход и судьбу...
Более существенное мое описание институтской жизни, особенно на последних курсах, включая семестр в ГДР, уже изложено в упомянутой статье "Москва ‒ Алжир ‒ Мюнхен. Опыт моей переводческой биографии" (https://rusidea.org/250958163). Она может служить продолжением вышесказанного.
Надеюсь, что Женя Соколов и Юра Боголепов напишут более подробные воспоминания о нашей студенческой молодости в МГПИИЯ. В целом, помимо увлекательного сопротивления Машине, в нашей студенческой жизни было много интересного: театры, выставки, познавательная литература, поездки, знакомства и общение с интересными людьми, дружба ‒ то, чем дорога молодость большинству людей.
-

М.В. Назаров - Администраторы
- Сообщения: 7247
- Зарегистрирован: Вс окт 01, 2006 7:54 pm
- Откуда: Москва
Сообщений: 23
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Вернуться в Вопрос М.В.Назарову
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1