Доктор исторических наук, профессор исторического факультета Воронежского государственного университета Аркадий Юрьевич Минаков — один из ведущих исследователей русского консерватизма. Любопытно, что свой научный путь он начал с изучения противоположного направления — революционного. Причём в его крайней форме: его кандидатская диссертация посвящена истории организации «Народная расправа», возглавляемой «демоном» русского революционного движения Сергеем Нечаевым. Минаков не только исследователь, но и популяризатор русского консервативного наследия. Так, он входит в редколлегию журнала «Тетради по консерватизму». Редактор сайта «Родина на Неве», кандидат исторических наук Дмитрий Жвания попросил Аркадия Минакова рассказать о зарождении, становлении, развитии русского консерватизма и его месте в нашем настоящем.

Доктор исторических наук, профессор исторического факультета Воронежского государственного университета Аркадий Юрьевич Минаков — один из ведущих исследователей русского консерватизма
Органичное движение вперёд
Д.Ж.: Вы считаете, что ключевое понятие консерватизма — это традиция. Но что такое традиция для консерватизма? Явно не то, что под традицией (обязательно с большой буквы) подразумевали Рено Генон и Юлиус Эвола… К какой традиции апеллировали первые русские консерваторы?
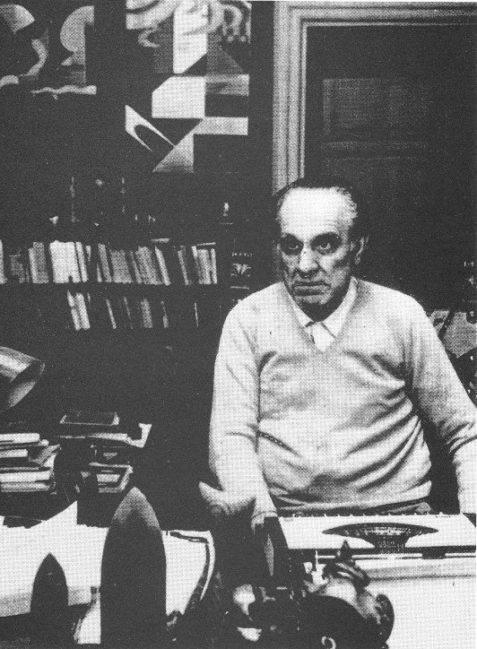
Юлиус Эвола (1898 —1974)
А.М.: Пример с Рене Геноном и Юлиусом Эволой важен и интересен для того чтобы мы могли убедительно ответить на ваш вопрос. Генонизм и эволаизм исходят из очень своеобразной картины мира и исторического процесса, которая в общем-то не исторична. В основе взглядов как Генона, так и Эволы лежит представление о мире, в котором существует единая духовная основа, некая прарелигия, которая лишь в ходе исторического процесса претерпела деградацию. И плодами этой деградация являются так называемые традиционные религии. По Генону и Эволе, мир инволюционирует, он только постоянно ухудшается и деградирует. Исходное их понимание традиции восходит к романтическому, хотя чрезвычайно увлекательному, и, может быть даже, эстетически привлекательному идеалу сверхиерархического общества, чётко разделённого на жрецов, воинов и землепашцев, впрочем, находится там место и для неприкасаемых. Это так называемая схема Демюзиля (Жорж Дюмезиль — французский лингвист и мифолог, живший в ХХ веке — прим. ред.).
В какой мере консерватизм, который появляется в конце XVIII — начале XIX веков, как в Европе, так и в России, соотносится с подобного рода идеологиями? Ответ: никак. Конечно, генонизм и эволаизм — это прежде всего порождение тоталитарного ХХ века. Это, если хотите, идеология, которая представляет собой форму полного романтического отрицания современного мира.
Что же касается консерватизма, то он явился прежде всего ответом на величайшее потрясение западноевропейского мира, вызванное Французской революцией 1789 года. Собственно, первоначально все выдающиеся трактаты и манифесты, которые ознаменовали появление консерватизма как идеологии, опирающуюся на традицию, были, конечно же, реакцией на Эпоху Просвещения, на просветительские идеи, на практики якобинской диктатуры, на якобинский террор, на нравственную, интеллектуальную и эстетическую деградацию, которые пережила Франция и значительная часть европейского мира. Тогда и появляются трактаты Жозефа де Местра и Эдмунда Бёрка.

Рене Генон (1886 — 1951)
Когда отцы-основатели консерватизма говорили о традиции, они конечно, имели в виду «старый режим», опирающийся прежде всего на христианские ценности. Невозможно себе представить консерватизм вне культа религии, вне культа трансцендентного начала. Причём речь идёт всегда о конкретной посюсторонней земной религии: либо католичестве, либо православии.
Религиозные ценности — это ядро, основа, несущая конструкция консервативной традиции. Эта традиция является результатом «наращивания» целых пластов светских ценностей на первичную основу — представлений о Боге, о смысле жизни как общества в целом, так отдельного человека, представлений о природе зла и добра, о том, что такое богатство и нищета, леность и труд и т.д., на основе всего этого возникает собственно культура, правовые представления, государственность и пр., это восходит прежде всего к религиозной традиции. Это то, что нужно сохранить и приумножить. И это то, что нужно возродить, с точки зрения консерватора, если оно утрачено. Вот такими они появились в конце XVIII и начале XIX века. Это их основной пафос.
— Чем консерватизм отличается от архаики?
— Я бы попросил вас уточнить что вы подразумеваете под архаикой? Потому что здесь могут быть разные интерпретации.
— Архаика — это возвеличивание старины, желание найти далёкой старине золотой век. Тот же Александр Семёнович Шишков, считая, что реформы Петра I перелопатили Русь, видел образец для подражания в дореформенной, московской, Руси. Или я ошибаюсь?

Александр Шишков (1754 — 1841) — адмирал, один из родоначальников русского консерватизма
— Давайте используем ваше определение архаики — как направленности сознания на прошлое, в котором был некий золотой век. Безусловно, такого рода представления были характерны для Александра Семёновича Шишкова. Сам Шишков на раннем этапе своей деятельности, где-то в 70-80-е годы XVIII века, увлекался масонством. В его ближайшее окружение, входили видные представители масонских лож, в частности, Голенищевы-Кутузовы. Тогда в русских масонских кругах, среди розенкрейцеров-новиковцев, были распространены представление о том, что когда-то существовал золотой век, что именно в прошлом нужно искать эталоны, нормы поведения для современного человека, что петровская современность чрезвычайно исказила нравы.
Особенно масонов тогда возмущала склонность екатерининского дворянства к роскоши, к тому что, они называли екатерининским развратом. Наиболее ярко это выражено в масонской утопии Михаила Михайловича Щербатова «Путешествие в землю Офирскую» и его трактате «О повреждении нравов в России». Словом, это было сравнительно экзотическое узкое течение в русской общественной мысли, которое было тесно связано с масонской эзотерикой.
Вот такие мотивы были характерны для раннего Шишкова. У него можно было встретить апологию русской старины, когда нравы были чище, жизнь была лучше, а новое всегда хуже старого, но всё-таки к этому сводить воззрения всех русских консерваторов конца XVIII — начала XIX веков нельзя. Это, если хотите, особенность раннего Александра Семёновича. Скорее у большинства из них был следующий подход. То, что навязывалось просветительской философией в качестве идеала прогресса, потерпело крушение после 1879 года. Мечтания о свободе, равенстве и братстве обернулись кровавой оргией якобинства и террора. Николай Михайлович Карамзин, восклицает в 1795 году: «Век Просвещения! Я не узнаю тебя — в крови и в пламени не узнаю тебя — среди убийств и разрушения не узнаю тебя!». Это был талантливый литератор, который начинал, как сторонник идеологии «Просвещения», западник, космополит, член масонской ложи, но шок, пережитый им от тогдашних европейских событий, буквально перевернул, изменил его сознание и сделал его консерватором.

Николай Карамзин (1766 — 1826) — русский историк, в зрелые годы стал консерватором. (А. Венецианов. Портрет Карамзина. 1828)
Безусловно, первые русские консерваторы в той или иной степени отвергали или критиковали прогресс, но говорить о том, что они были обращены исключительно в прошлое и только в прошлом видели идеал, было бы ошибкой. В целом для консерватизма, и я настаиваю на этом, скорее характерно неприятие абсолютизации принципа новизны.
Несколько слов о принципе новизны в просветительской идеологии и в вытекающих из этой идеологии социализма и либерализма, для них новое — это всегда более ценное, чем старое. Новое — это всегда то, что связано с прогрессом. Новое — это то, чему необходимо поклоняться и безоговорочно принимать. Любое прогрессистское сознание в той или иной степени разделяет эту формулу. Здравый же среднестатистический консерватор, не слишком экзотический, подобно Генону и Эволе, всё-таки исходит из того, что новизну не надо абсолютизировать. Новизна нужна, новизну не надо отрицать, но только то новое должно войти в жизненную практику, что соответствует традиции, опирается на неё, не разрушает её исходное ценностное ядро. То есть развитие, движение вперёд, всегда должно быть достаточно органичным, иметь традиционалистскую основу. Вот их подход. Говорить, о том, что они обязательно видят идеал только в прошлом — это всё-таки заблуждение.
Жозеф де Местр учил Петербург
— Жозеф де Местр, один из отцов консерватизма, 14 лет прожил в Петербурге. Он много писал о столице Российской империи и русских. Как, на Ваш взгляд, петербургские впечатления в том числе полученные при русском императорском дворе, отразились на консервативной концепции де Местра? Если каким-то образом отразились, то можно ли говорить, что в европейском консерватизме есть, так сказать, немного Петербурга?

Жозеф де Местр (1753 — 1821) — один из зачинателей европейского консерватизма, ревностный католик. В 1803—1817 годы был посланником Сардинского королевства в России
— Вопрос не из лёгких. Видите ли, я изучал преимущественно русский консерватизм, правда, наиболее детальное изучение его пришлось как раз на период первой четверти XIX века, когда Жозеф де Местр излагал свои основополагающие взгляды в работах с очень характерными названиями: «Санкт-Петербургские вечера», «Санкт-петербургские беседы», «Четыре разговора о России». Безусловно, де Местр играл исключительно важную роль не только в европейской, но и в русской интеллектуальной и политической жизни. Достаточно сказать, что, будучи посланником сардинского короля, он имел непосредственный доступ к императору Александру I и входил в такие салоны, был связан с такими правящими группами, которые находились на самой верхушке тогдашней иерархии монархической власти.
Скажем, его знакомство с Александром Сергеевичем Строгановым, Павлом Васильевичем Чичаговым, фрейлиной императрицы Елизаветы Алексеевны Роксандрой Скарлатовной Стурдзой, Сергеем Семёновичем Уваровым, уже тогда входящим в силу, говорит о том, что он имел большое влияние и серьёзные связи в центре русской власти. Приведу малоизвестный факт: когда накануне Отечественной войны 1812 года после отставки государственного секретаря Михаила Михайловича Сперанского и его опалы Александр I задумался о том, кто должен стать новым государственным секретарём, он рассматривал три кандидатуры: Жозефа де Местр, Карамзина и Шишкова. То есть де Местр пользовался огромным авторитетом в глазах императорской монархической российской власти.
Безусловно, де Местр как убежденный контрреволюционер, ненавистник Французской революции и всего того что с ней связано, искал те силы, тех союзников, которые могли остановить пресловутый мировой революционный процесс. Очевидно, что Франция и такие государства, как Австрия, Германия и т.д., с его точки зрения, не обладали таким мощным антиреволюционным потенциалом, как Российская Империя. Понятное дело, что он возлагал определённые надежды на русский императорский двор, на русскую армию, да и в целом его убежденность в том, что Восток более консервативен, более традиционен, а Россия для него была частью Востока, играла свою роль.

Граф Фёдор Ростопчин (1763 — 1826). Московский градоначальник и генерал-губернатор Москвы во время наполеоновского нашествия
А вот теперь начнём говорить о том, что вряд ли будет приятно для тех, кто полагает, что атмосфера Санкт-Петербурга сама по себе могла сильно на него повлиять. Скорее всё было с точностью до наоборот: Жозеф де Местр не учился у Петербурга, Жозеф де Местр учил Петербург. Он явно рассматривал себя как пропагандиста и пророка, который наставляет на путь истинный и русского монарха, и своих русских собеседников. Достаточно сказать, что де Местр был более глубоким, более ярким и талантливым критиком галломании, исторической формы тогдашнего западничества, нежели таковыми были, например, Шишков или зрелый Карамзин. Инвективы, которые он обрушивал на галломанию, невероятно талантливые, яркие, запоминающиеся и даже странно обнаруживать, что пафос самих русских консерваторов и самого русского консерватизма, который возник первоначально как критика галломании, ему явно на этом поприще уступает.
Процитирую. Вот он пишет в 1810 году: «У меня нет слов описать вам французское влияние во всей стране (имеется в виду в России — ред.). Гений Франции оседлал гения России буквально так, как человек обуздывает лошадь». И далее. «Российская цивилизация по времени совпала с эпохой максимального развращения человеческого духа, и множество обстоятельств пришли в соединение и, так сказать, смешали русский народ с народом (с французами), который одновременно был самым ужасным орудием и самой жалкой жертвой этого развращения. Ужасная литература XVIII века сразу без какой-либо подготовки проникла в Россию и на первых уроках французского языка, которое услышало русское ухо, звучали слова богохульства».
Можно говорить о том, что Жозеф де Местр немало сделал для того, чтобы к 1812 году и особенно после него в политике русского царя Александра I, в области народного просвещения, университетской политики, культурной политике, наконец-то началась реальная борьба за вытеснение французского влияния. В частности, были приняты достаточно жёсткие меры, чтобы ограничить число иностранных пансионов, в которых воспитывалось и образовывалось русское дворянство. Как правило, эти пансионы создавались выходцами из Франции. И знаете, нет тех инвектив, которые бы не обрушивал на своих соотечественников Жозеф де Местр. Вот послушайте: «Одни только люди посредственные, и к тому же не только развратные, но и совершенно испорченные являются на Север предлагать за деньги свою мнимую учёность. Особенно теперь Россия ежедневно покрывается этою пеною, которую выбрасывают на неё политические бури соседних стран. Перебежчики эти приносят сюда одну наглость и пороки. Не имея ни любви, ни уважения к стране, без связей домашних, гражданских или религиозных, они смеются над теми непрозорливыми русскими, которые поручают им всё, что есть дорогого у них на свете, они спешат набрать довольно золота, чтобы привольно зажить в другом месте, и, обманув общественное мнение кое-какими публичными опытами, которые истинным судьям представляются жалкими образцами невежества, возвращаются на родину, чтобы издеваться над Россиею в дрянных книжонках, которые Россия ещё покупает у этих же бездельников, — пожалуй, даже переводит… Таким образом сюда попадает сор Европы, и несчастная Россия дорого платит сонмищу иностранцев, исключительно занятому её порчею».

Сергей Николаевич Глинка (1776 — 1847) — русский историк, писатель
То есть никаких надежд в отношении России как носителя особых цивилизационных начал, которые бы могли оздоровить Европу, никаких иллюзий относительно самобытности, культурной автономности и суверенности русского культурного слоя Жозеф де Местр не испытывал. Русская культура тогдашнего периода была по преимуществу культурой подражательной, и его больше всего беспокоила именно эта подражательность.
К тому же он откровенно презирал православие как «схизматическую», «раскольническую секту», не ждал от него никаких культурных или государственных инициатив. Для него тот факт, что православие не претендовало на государственную власть, было отягчающим обстоятельством. Ведь сам он был католиком-ультрамонтаном, для которого идеалом была власть Римского папы над Европой (ультрамонтаны — религиозно-политическое направление в католицизме, сторонники которого отстаивают идею неограниченной верховной власти Римского папы и его право вмешиваться в светские дела любого государства — прим. ред.).
Единственное, что его очень сильно восхищало, — это мощная централизованная монархическая имперская власть, а ещё он отдавал дань воинской доблести русских. В них он видел то самое пушечное мясо, которое можно было бы, при его дипломатических усилиях и прочих сопутствующих факторах, противопоставить разрушающему кровавому потоку французской революции.
Его привлекали главным образом прозелиты, последователи его взглядов в русском обществе, он сотрудничал с представителями условной «католической партии» при дворе. И говорить о том, что он в какой-то мере подвергся влиянию императорского Петербурга, что именно это влияние каким-то образом сформировало его взгляды, явно не приходится. Он занимался чем-то прямо противоположным: он старался подчинить Петербург своему собственному идейному влиянию. А себя он рассматривал как верного служителя католической церкви и папской курии.
Я могу добавить, что в период, когда в российском государственном аппарате огромную силу имел Михаил Сперанский, готовящий либеральные реформы (его и в либеральной и в советской историографии называют великим реформатором, иногда — либерально-бюрократическим реформатором), де Местр писал огромные депеши, в которых старался доказать, что Россия в силу влияния Сперанского находится в страшной опасности, поскольку Сперанский, очаровавший Александра I — опаснейший иллюминат, представитель деструктивного масонского течения, выходец не из дворянского сословия (Сперанский был поповичем), словом, Сперанский — это та новая политическая сила, которую надо изолировать и при первой же возможности уничтожить. То есть де Местр считал, что Россия может рухнуть под воздействием тех идеологических флюидов, первоосновой которых были идеи Просвещения, глубоко ему ненавистные, и мировое масонство. Страх и ненависть к масонству среди видных представителей католицизма, начиная с аббата Огюстена Баррюэля, были обусловлены их непоколебимым убеждением, что масонские ложи сыграли ключевую роль в Французской революции.
— Жозеф де Местр, доказывал, что истинные плоды человеческого рода — это не люди, а «искусства, науки, великие предприятия, высокие идеи, мужественные добродетели», а «кровь является удобрением для того растения, которое называется гений»? Он был апологетом войны, полагая, что война освобождает народы «от слабости, неверия и от гангренозных пороков, происходящих от избытка цивилизации», «омывая души народов в крови, она возвращает им молодость». Это — с одной стороны. С другой — наш великий почвенник, консерватор Фёдор Михайлович Достоевский считал, что никакое благополучие не стоит слезинки ребёнка!». Как друг с другом уживаются консерватизм и гуманизм? Или консерватизм без агрессивной имперской идеи превращается в проповедь мещанского конформизма, исходящего из логики — лишь бы не стало хуже?

Пётр Вяземский (1792 — 1878) — русский поэт, литературный критик, историк, переводчик, публицист, мемуарист, государственный деятель
— Де Местр — очень яркий, очень самобытный и очень оригинальный мыслитель, и многое из того, что мы находим в его наследии, присуще только ему. Сам же консерватизм очень многолик. В нём существуют разные течения: умеренные, «центристские», есть либеральный консерватизм и т.д. Вот, скажем, современник Достоевского, говорившего о слезе ребёнка, а зрелый Достоевский — безусловно, консерватор, Константин Николаевич Леонтьев, тоже консерватор, его иногда называют русским консерватором номер один, жёстко критиковал великого писателя за, как он говорил, «розовое христианство»: слезливое, сентиментальное, далёкое от подлинно святоотеческого христианского взгляда на падший мир, лежащий во зле, и греховного человека.
И вот теперь я перехожу к наиболее существенной части вашего вопроса: являются ли консерваторы сторонниками гуманизма? Давайте начнём с гуманизма. Гуманизм — это идейное секулярное течение, которое приходит на смену религиозному мировоззрению. Тому мировоззрению, в котором главной ценностью является Бог и, если угодно, всё то, что в нравственном, правовом, эстетическом, в каком угодно отношении вытекает из признания этого факта.
Гуманизм же — это то духовное явление, которое в центр мира ставит человека, конкретного плотского человека, не богочеловека, не Иисуса Христа, являющегося одной из ипостасей Бога, а вот этого посюстороннего, земного человека с его страстями, с его грехами, с его человеческой природой, тяготеющей ко злу. Вот такой гуманизм консерваторы в той мере, в которой они остаются приверженцами религии, верующими и признающими Бога основной ценностью, как правило, отвергают.
В ту эпоху гуманисты называли себя просветителями. Просветители — это те мыслители, которые идейно готовили Французскую революцию и все последовательно вытекающие из неё последствия и процессы. Просветители исходили из своего видения человека. Этот человек, человек просветителей, изначально благ, изначально добр, он приходит в этот мир совершенно неиспорченным и только наличие традиции, этой самой отвратительной архаики, предрассудков, несправедливости, олицетворением которых являются прежде всего религия и церковь, с одной стороны, а с другой стороны — существующие монархические режимы, делают его плохим. Соответственно, это зло, все эти предрассудки, все эти институты должны быть уничтожены светом просвещения, а, если надо, революцией. Во имя высвобождения, во имя воспитания нового, благого, доброго человека.

Фёдор Тютчев (1803 — 1873) — русский поэт-мыслитель, дипломат, публицист, идеолог имперского консерватизма. (Александровский С.Ф. Портрет поэта Ф.И. Тютчева. 1876. www.agniart.ru)
Консерваторы возражали: вы не понимаете природы человека. Природа человека наиболее адекватно описана христианством, отцами церкви и христианскими богословами. Человек изначально грешен, его природа предполагает наличие тяги ко злу. Страсть, тяга человека к преступлениям, к убийствам, к воровству, к нарушению закона, к войне, наконец, к пролитию крови, неискоренима и неистребима. Те, кто утверждает обратное, превращаются в адептов «розового христианства» или, ещё хуже, нецерковного, безрелигиозного гуманизма, который высмеивали как Жозеф де Местр, так и другие консерваторы.
Поэтому, по мнению консерваторов, нужно иметь трезвый взгляд на человека, уметь видеть зло, распознавать его формы, если угодно, принимать в какой-то мере этот мир с его злом, понимая, что радикально преобразовать его к лучшему в принципе невозможно. И что наиболее существенные изменения могут происходить только в глубине человеческого духа. Того духа, который руководствуется высшими ценностями. А это для консерваторов именно религиозные ценности.
Начальный корпус русского консерватизма
— Как говорил де Местр, «человек слишком плох, чтобы быть свободным». Вы упомянули Константина Леонтьева, и на память пришла его фраза: «Охранение у всякой нации своё, у турка — турецкое, у англичанина — английское, у русского — русское; а либерализм у всех один». Заметьте, он использовал слово «охранение». А мы всё пользуемся латинскими словами… Так чем «русское охранение» отличается от других?

Константин Леонтьев (1831—1891) — русский дипломат, мыслитель-консерватор, писатель, литературный критик, публицист
— Отличный и закономерный вопрос. Вначале вернёмся к формуле Леонтьева о том, что охранительство, назовём его всё же консерватизмом, у всякого народа разное. И это действительно так. Дело в том, что корни как либеральной, так и социалистической идеологии, уходят в философию Просвещения. Несмотря на наличие расхождений и разность течений, это всё-таки очень схожие доктрины.
Либерализмы и социализмы в разных странах очень похожи друг на друга, да, у них имеются незначительные специфические национальные особенности, но некий общий каркас, некая общая сетка, связующая их воедино, очевидны: свобода личности, права человека, диктатура пролетариата, классовая борьба — я здесь намеренно использую как либеральную, так и социалистическую терминологии. Концептуальная понятийная сетка едина как для либералов, так и для социалистов в разных полушариях. Эти течения в чём-то родственны друг с другом, повторяю, имеют единый корень, ну а, во-вторых, согласитесь, к примеру, русские троцкисты, латиноамериканские троцкисты, французские троцкисты, японские троцкисты — все эти люди говорят на одном терминологическом языке. То же можно сказать об анархистах, маоистах и пр. Ну а либеральный глобализм воистину явление планетарного масштаба, он предельно унифицирован и космополитичен.
Не так с консерваторами. Всё дело в том, что они опираются не на рациональные схемы, возникшие в умах великих людей, кабинетных мыслителей, выраженные в чрезвычайно похожих друг на друга программах. Консерватизм опирается на национальные традиции, на их истолкование, а традиции у всех разные, поскольку у всех разные истории. В этих самых разных исторических процессах складываются разные формы религии, разные формулы человеческого поведения, разные правовые представления и пр. То есть то, что Леонтьев называл «цветущей сложностью», цивилизационной сложностью, как раз в наибольшей степени выражается и ценится консерваторами, именно поэтому они — разные.
И, конечно же, русский консерватизм с самого начала имел свою специфику. Он возникал, в отличие от западноевропейского не вполне под определяющим влиянием Французской революции. Можно понять де Местра, можно понять Бёрка: они находились в эпицентре этого взрыва, они буквально чувствовали огненное дыхание этой лавы, магмы, которая исторгала история. Но Россия всё-таки осталась в стороне от тех событий, и, соответственно, она прежде всего реагировала на другие факторы, на которые лишь наложились французские события. Они реагировали на то, что мы сейчас называем революцией Петра I, точнее — на её последствия. И даже ещё точнее — на одно из самых глубоких её последствий: на возникновение достаточно большого слоя политиков и интеллектуалов, которые были убеждены, что никакой особой самобытности, особого пути у России нет. Шла максимальная пересадка на русскую почву самых разнообразных западноевропейских моделей: политических, культурных, идеологических, экономических, правовых и т.д. Это был пафос, по сути дела, полного идейного и духовного подчинения другой цивилизации.

Сергей Уваров (1786–1855) — видный ученый и общественный деятель в царствование Императора Николая I, автор знаменитой триады «Православие, Самодержавие, Народность»
Более того, своя собственная цивилизационная основа и самобытность этими людьми отвергалась. В конце XVIII — начале XIX века, как я уже сказал, исторической формой западничества была галломания — лишённая всяческих тормозов страсть ко всему французскому. Дело заключалось не только в великолепном знании парижского прононса. Нет. Русский правящий слой, если говорить о западничестве, не просто не говорил по-русски, он переставал мыслить по-русски. Переставал осознавать те интересы, которыми живёт находящаяся в их власти огромная страна. Это не просто другое платье, это не просто другой фасон, манеры, это не просто архитектура зданий, в которых ты живёшь, это не просто французский повар, который готовит изысканные блюда, но это и книги, и идеи, и живое стремление сделать так, как в любимой Франции.
Приведу один пример. Одним из ярчайших русских консерваторов начала XIX века был Сергей Николаевич Глинка. Он прославился как издатель журнала «Русский вестник» — крайне консервативного, ультрапатриотического. Главной целью Глинки была борьба с галломанией и создание той альтернативной галломании и просветительскому либерализму идеологии, которую мы сейчас называем консерватизмом — русским консерватизмом. Глинка был, что называется, крайним. Крайним во всём. В силу темперамента, в силу характера (о нём можно долго рассказывать, это была удивительно яркая и оригинальная личность).
Любопытно, что, когда он был молодым, он убеждал тех соучеников, кто его окружал в шляхетском корпусе в Санкт-Петербурге, что он не русский, а природный француз, и самые главные его устремления интеллектуальные были связаны с Францией. Он упивался историей французской революции. Он видел себя одним из её деятелей. Он перевёл на русский язык «Марсельезу». А на грани XVIII-XIX веков пределом его мечтаний было стать простым солдатом в наполеоновской армии, которая на штыках несла порядок, созданный французской революцией по всему миру. Вот что такое галломания. И вот потом этот неистовый галломан превращается в не менее неистового русского консерватора-патриота. Но это было потом. А поначалу он был типичным представителем русского образованного слоя, пораженного галломанией.

Михаил Погодин (1800 — 1875) — русский историк, писатель, публицист-консерватор
Когда мы говорим о галломании, уместно также привести мнение князя Петра Андреевича Вяземского, одного из тончайших интеллектуалов того времени, друга Александра Сергеевича Пушкина. Прожил он, в отличии от Пушкина, многие десятилетия, оставил значительный след в русской культуре, в русской мемуаристке. Вяземский по поводу галломании русского общества, а он сам, конечно, был одно время галломаном, писал так: «Дух чужеземства мог быть тогда в самом деле опасен. Нужно было противодействовать ему всеми силами и средствами. В таких обстоятельствах даже излишества и крайность убеждений были у места. Укорительные слова: галломания, французолюбцы, бывшие тогда в употреблении, имели полное значение. Ими стреляли не на воздух, а в прямую цель. Надлежало драться не только на полях битвы, но и воевать против нравов, предубеждений, малодушных привычек. Европа онаполеонилась. России, прижатой к своим степям, предлежал вопрос: быть или не быть, то есть следовать за общим потоком и поглотиться в нём, или упорствовать до смерти или до победы?».
Итак, галломания тогда — крайняя форма западничества. Западничество правящего слоя и вызванные этим проблемы и породили феномен русского консерватизма. Писания Шишкова, его рассуждения «О старом и новом слоге языка российского», публицистические статьи Карамзина в созданном им журнале «Вестник Европы», «Мысли вслух на красном крыльце» Фёдора Васильевича Растопчина — это первый, так сказать, начальный корпус русских консервативных произведений. Все они вращались вокруг проблемы галломании русского общества, вокруг проблемы: до каких пор мы будем оставаться подражателями? До каких пор мы будем оставаться вечными учениками? Пора переходить к собственному национальному творчеству. Пора обретать суверенитет в самых разных сферах жизни. Ну и вот этот пафос национального культурного творчества, национального самостояния — это то, что породило русский консерватизм. А его специфика и характерные черты уже вытекали из самобытности самого исторического процесса России.
Все русские консерваторы, абсолютно все без исключения, были поклонниками сильной, централизованной, мощной иерархической власти. В русских условиях в течение столетий только такая власть могла обеспечить необходимую мобилизацию как материальных средств, так и людских ресурсов для того чтобы вести многочисленные войны (две трети своего исторического времени Россия провела в войнах) — как оборонительные, так и наступательные. Войны, которые часто не оставляли ни малейшего исторического шанса выжить, поэтому мощнейшая централизованная власть воспринималась в сознании консерваторов как благо, она, по сути дела, отождествлялась с тем, что сейчас мы называем цивилизационным кодом.
Разумеется, огромную роль в русской истории сыграло православие и православная церковь. И в этом плане, конечно же, консерваторы, которые изначально ориентируются на религиозную традицию, неизменно подчеркивали свою приверженность этой системе ценностей. Ну и, наконец, тот же Шишков одним из первых заговорил о том, что вестернизированный верхний слой, по сути дела, превратился в некий особый народ, живущий в пределах большого народа, который сохранил подлинные русские ценности. Этот большой народ до сих пор не подвергся влиянию чуждых цивилизационных начал, именно он сохранил веру, традицию, определённые нравственные устои и формы общежития, те, на которые можно опереться русским консерваторам. Вот примерно так.
А по сути я говорю о той триаде, о той формуле, которую впервые ясно и чётко сформулировал Сергей Семёнович Уваров в 1833 году, будучи министром народного просвещения. Уваров нашел очень точное определение, несущее интеллектуальный заряд: «Православие, самодержавие, народность». Кстати говоря, оно изначально противопоставлялось другому, не менее яркому девизу — «Свобода, равенство, братство». Вот в этом, если коротко, заключалась специфика русского консерватизма в период его становления, и эта специфика сохранялась длительное время. Сохраняется она в каких-то определённых течениях и по настоящий день.
Мощнейший антипетербургский пласт
— Русские консерватизм, да и консерватизм вообще, зародился, когда столицей России был Санкт-Петербург. Но известно, что многие консерваторы Петербург не любили, считая его символом космополитизма и вестернизации России. То есть, с одной стороны, получается, что Петербург — город не совсем русский, а с другой — Россия достигла своего максимального расцвета и величия, когда он стал столицей русского государства. Противоречие? Если да, то как его интеллектуально преодолевали русские консерваторы?
— Петербург, конечно, создание Петра. Поэтому, когда мы говорим об отношении консерваторов к столице Российской империи, мы говорим об их отношении к Петру и петровскому наследию. Безусловно, среди консерваторов были мыслители, которые высоко и позитивно оценивали роль Петра. К таковым, например, относится чрезвычайно близкий к славянофилам историк Михаил Петрович Погодин. Можно указать на ряд его работ, на ряд его статей, где петровская эпоха — буквально предмет апологетики.

Михаил Катков (1818 — 1887) — русский консервативный публицист
Чужд был критического подхода к Петру и русский государственник, русский консерватор Михаил Никифорович Катков. Несмотря на то, сам он что жил в Москве. Довольно апологетически относился к Петру Константин Победоносцев, примерно тоже самое можно сказать и о символе русского консерватизма ХХ века Иване Александровиче Ильине. Мы не найдём в его творчестве, в его взглядах антипетровских мотивов. Я не буду воспроизводить их риторику, она вполне совпадает с традиционной пропетровской риторикой: создатель имперского государства, творец армии, флота, русской науки, патриот, который мечтал отдать свою жизнь за Россию.
Но большинство консерваторов относилось к Петру в целом негативно. Или, по крайней мере, в их высказываниях в его адрес содержались очень негативные коннотации. В условиях цензуры они их не могли открыто высказывать. И Александр Шишков, и Николай Карамзин в официальных произведениях занимались апологетикой Петра. Но есть их частные высказывания, не предназначавшиеся для публичного подцензурного поля. В них они вполне недвусмысленны.
Впрочем, говоря о Петре, начну с того, что наверняка покажется вам интересным. Возьмём высказывание Жан-Жака Руссо — одного из основателей эпохи Просвещения, идеологии Просвещения: «Русские никогда не станут истинно цивилизованными, так как они подверглись цивилизации чересчур рано. Пётр обладал талантами подражательными, у него не было подлинного гения, того, что творит и создаёт всё из ничего. Кое-что из сделанного им было хорошо, большая часть была не к месту. Он понимал, что его народ был диким, но совершенно не понял, что он ещё не созрел для уставов гражданского общества. Он хотел сразу просветить и благоустроить свой народ, в то время как его надо было ещё приучать к трудностям этого. Он хотел сначала создать немцев, англичан, когда надо было начать с того, чтобы создавать русских. Он помешал своим подданным стать когда-нибудь тем, чем они могли бы стать, убедив их, что они были тем, чем они не являются. Так наставник-француз воспитывает своего питомца, чтобы тот блистал в детстве, а затем навсегда остался ничтожеством». Высказывание Руссо поразительно. Оно, безусловно, нуждается в детальном осмыслении и обсуждении: почему философ-просветитель столь негативно отнёсся к величайшему государю в истории России, который сделал всё, чтобы Россию озападнить, вестернизировать? Пока воздержусь от ответа на этот вопрос, лишь подчеркну, что во многом аргументация ряда западных мыслителей относительно оценок деятельности Петра вполне «славянофильская».

Алексей Суворин (1834 — 1912) — русский журналист консервативного направления, издатель, писатель, театральный критик и драматург
Теперь возьмём высказывание другого мыслителя, который, несомненно, принадлежит к консервативному лагерю, и имя которого мы сегодня не раз упоминали это — Жозеф де Местр: «Я ставлю в вину вашему Петру величайший грех. Неуважение к своей нации, вообще сия страна отдана иностранцам и вырваться из их рук можно лишь посредством революции. Повинен в этом Пётр, коего именуют Великим, но который на самом деле был убийцей своей нации. Он не только презирал, он и оскорблял её, научил ненавидеть самое себя. Отняв собственные обычаи, характер, нравы и религию он отдал её чужеземным шарлатанам и сделав игрушкою нескончаемых перемен». Здесь отметим, что свою ненависть к протестантской Европе французский мыслитель, а протестантизм для Жозефа де Местра — один из корней, истоков революционного процесса в Европе, перенёс на Россию Петра, который во многом, проводя свои реформы, ориентировался прежде всего на протестантские страны.
Создатель, творец русского консерватизма, по крайней мере, его центральная фигура в первой четверти XIX века Николай Михайлович Карамзин говорил о Петре с пиететом. Особенно ранний Карамзин — это безусловный поклонник Петра, для него он «лучезарный Бог», «великий муж», поставивший страну на путь европейского просвещения. «Все жалкие иеремиады (то есть критические высказывания — прим. ред.) об изменении русского характера, потере русской нравственной физиогномии или не что иное, как шутка, или происходят от недостатка в основательном размышлении». Это ранний Карамзин. А вот уже в 1811 году в записке «О древней и новой России» (это эпохальный документ, самый главный русский консервативный трактат первой четверти XIX века, который в концентрированном виде содержит основные интенции русской консервативной мысли на десятилетия вперед) он уже пишет другое: «страсть Петра к преобразованиям переступила в нём границы благоразумия»; «пылкий монарх с разгоряченным воображением, увидев Европу, захотел делать Россию Голландией». По мнению зрелого Карамзина, стремление императора реформировать Россию по образу и подобию Европы подрывало «дух народный», то есть самые основы самодержавия, «нравственное могущество государства».
«Мы с приобретением добродетелей человеческих утратили гражданские. Имя русское имеет ли теперь для нас ту силу неисповедимую, какую оно имело прежде? Некогда называли мы всех иных европейцев неверными, теперь называем братьями; спрашиваю: кому бы легче было покорить Россию — неверным или братьям? То есть кому бы она, по вероятности, долженствовала более противиться? Мы стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России. Виною Пётр», — утверждает Карамзин в записке «О древней и новой России».
Карамзин вменяет в вину Петру многое, а главное — создание европеизированного правящего слоя, который, по сути дела, перестал быть русским. Он обвиняет его в этом гигантском болезненном социокультурном расколе, разрыве между верхами и низами. Потом эту антипетровскую «эстафету» подхватывают славянофилы. Для них Пётр творец наиболее жестоких форм государственности, тех форм, которые были неизбежны для того, чтобы создать регулярное государство. Для них крепостное право — это преступление Петра, которое нужно убрать из русской истории. Славянофилы — последовательные противники крепостного права, поэтому они принимали в реформах Александра II самое активное участие.
Вот эти мотивы, среди которых главный — вменение Петру создание социокультурной пропасти между верхами и низами, чреватой революцией. И это вменение, пожалуй, одна из главных скреп русской консервативной идеологии до 1917 года. Да и после.
Соответственно отношение к Петру переносится в какой-то мере и на его творения. Кстати говоря, консерваторы критикуют его не за то, что он создал армию и флот. Его не упрекают за внедрение каких-то институциональных форм, которые, безусловно, принесли пользу России, но критикуют жёстко за то, что он верхний слой денационализировал. Сделал его космополитическим. А значит — малопригодным для решения тех проблем, которые стоят перед русскими и Россией. Ну а в сфере культуры, подражательство, конечно же, подвергалось наиболее ожесточённой критике. Мощнейший антипетербургский пласт можно найти у многих русских консерваторов. В художественной форме это гениально выражено в творчестве Фёдора Михайловича Достоевского.
Сложные славянофилы
— Вы упомянули славянофилов как консерваторов. А они самым причудливым образом повлияли на «отца анархии» Михаила Александровича Бакунина. Как я понимаю, они разрабатывали концепцию некой «безгосударственной монархии», когда царь непосредственно общается с народом, минуя бюрократию. Наверное, в связи с этим если они и были консерваторами, то консерваторами особого рода. Может быть, их следует зачислить в родоначальники модной в определённых кругах концепции «национал-анархизма»?


Славянофилы братья Аксаковы: Иван Аксаков (1823 — 1886) и Константин Аксаков (1817 — 1860)
— Национал-анархизм или либерализм славянофилов — достаточно устойчивая интерпретация их взглядов. Появилась она прежде всего во второй половине ХХ века. До этого либеральный лагерь, либеральная русская историография, а уж тем более марксистская советская, неизменно записывали славянофилов в стан крепостников, реакционеров, мракобесов, консерваторов и т.д. И пощады им не было.
В 1980-е годы ХХ века профессором исторического факультета МГУ Николаем Ивановичем Цимбаевым была развита концепция, которая относила славянофилов в разряд либералов. Эту свою позицию он изложил в монографии, которая тогда была новаторской, очень свежей. К либералам он их относил вот по какой причине. Они выступали за развитие народного самоуправления, боролись с бюрократией, выступали за отмену крепостного права, за веротерпимость, например, по отношению к старообрядцам, за свободу слова — ведь это всё либеральные маркеры. А, соответственно, славянофилы являются течением русского либерализма. Так выглядела схема, которой руководствовался известный историк. Но ситуация с идейной идентификацией славянофилов, на мой взгляд, всё же сложнее.
Были ли славянофилы либералами? И да, и нет. До царствования Александра II, до великих реформ, славянофильские издания постоянно запрещались. Славянофилы, что называется, большей частью вынужденно писали в стол, их произведения отвергала цензура, видя в них крамольников. Но в их воззрениях всегда был огромный пласт, который ориентировался вот на ту самую схему, о которой мы говорили, на уваровскую триаду «Православие, Самодержавие, Народность». Они прежде всего занимались поиском особого цивилизационного пути России, философским обоснованием русской самобытности. И здесь они апеллируют к элементам уваровской триады.

Иван Киреевский (1806 — 1856) — философ-славянофил
Начнём с Православия. Львиную долю наследия Ивана Киреевского и Алексея Хомякова составляют религиозно-философские трактаты. Причём очень тесно связанные с православием и православной церковью. Политика их интересовала в меньшей степени. Не на ней они делали акцент.
Теперь о самодержавной монархии. Были ли они антимонархистами? Были ли они антигосударственниками? Ну разве что у Константина Сергеевича Аксакова, в его публицистике, в отличие от произведений других славянофилов, роль и значение государства минимизируется. Он не ставит под сомнение необходимость монархии, которая опирается на Церковь — но на свободную, а не на синодальную, обюрокраченную, подчинённую государству, какой её сделал Пётр. Это монархия, которая опирается не на бюрократический слой, а на разветвлённую земщину — традиционное для допетровской Руси земское самоуправление.
Я всё же бы не рискнул говорить о том, что у славянофильства преобладает какой-то антигосударственный пафос, а уж тем более «национал-анархизм». То, что они были умеренными русскими националистами, то есть видели в русском народе то начало, которое освобожденное от крепостного права займётся земским строительством и преобразит Русь на православных христианских началах общения, — несомненно.
Однако по мере того, как после 1861 года осуществлялись Великие реформы (освобождение крестьян от крепостного права, началась земская реформа, была введена гласность — необходимое условие свободы слова, расширялась веротерпимость по сравнению с эпохой Николая I и т.д.) консервативное содержание славянофильства всё больше и больше актуализировалось и выходило на первый план. Они, так сказать, всё больше «правели». Вот так можно ответить на вопрос о славянофильстве.
— А так ли уж сильно славянофилы не любили Петра, как принято считать? Как быть со следующим высказыванием славянофила Ивана Аксакова: «Допетровской Руси сочувствовать нельзя, а можно только сочувствовать началам, не выработанным или даже ложно направленным, проявленным русским народом». О каких началах вёл речь Аксаков?
— А дальше он продолжает: «Ни одного скверного часа настоящего, я не отдам за прошедшее». Тут нужно посмотреть на Ивана Сергеевича Аксакова в конкретном контексте его публицистического творчества. В то время, когда появляется это его высказывание, он очень много критикует православие, русскую православную монашескую и церковную традиции. С одной стороны, он говорит, что никогда не усомнится в православии, никогда не порвёт с церковью, но с другой, обращаясь к Киево-Печерскому патерику, собранию житий основателей русского монашества, он заявляет, что эти аскетические жития вызывают у него протест против самоумерщвления, протест против этой аскетической монашеской практики. И он просит своего брата Константина «не навязывать ему насильственных неестественных сочувствий тому, чему нельзя сочувствовать — к допетровской Руси к обрядовому православию, к монахам, как покойный Иван Васильевич Киреевский».

Алексей Хомяков (1804 — 1860) — философ-славянофил, богослов
То есть в славянофильстве были разные оттенки и между славянофилами существовали весьма серьёзные разногласия. Иван Васильевич Киреевский — тончайший философ и, смею вам заметить богослов, который одним из первых актуализировал то, что впоследствии получило название «византизма». Он обратился к традициям отцов, к творениям византийских святых и богословов, начиная с IV века, тех, кто, по сути дела, сформировали православную церковность. Он переводил византийских святых отцов, возрождал практику византийского богословия, тесно сотрудничал со старцами Оптиной пустыни, в частности, он был в самом тесном взаимодействии со старцем Макарием.
А вот у Ивана Сергеевича Аксакова всё это вызывало отторжение и протест: византийские аскетические практики, монашество, обрядовое православие. Почему? А потому что, с его точки зрения, они приводили, как он считал, к ограничению личностного начала. Вот он пишет: «Необходимо ввести жизненный элемент в церковь историческую. Россия грешит безличностью, то есть уничтожением личности в семье, в общине, в сословии духовном, в жизни церковной». Это — точка зрения Ивана Аксакова. Он считает, что эти «византийские формы» убивают индивидуальность. Это его возмущает. Но именно поэтому он говорит: «Ни одного скверного часа настоящего я не отдам за прошедшее».
Я постарался Вам показать, что на основе одной единственной цитаты просто невозможно в целом составить суждение о позиции славянофилов по отношению к христианству, византийской традиции, допетровской Руси и личности Петра. Их точки зрения очень разнились между собой и вряд ли их можно унифицировать, подведя под некий единый знаменатель.
Пётр Чаадаев — русский де Местр
— Хорошо. Давайте теперь поговорим об антиподах славянофилов — западниках. Известно, что родоначальник русского западничества Пётр Яковлевич Чаадаев находился под большим влиянием идей Жозефа де Местра. Можно ли в связи с этим и Чаадаева зачислить в основатели русского консерватизма, но консерватизма особого рода — европейского русского консерватизма. Или так ставить вопрос некорректно?

Пётр Чаадаев (1794 — 1856) — русский философ, консерватор-западник, последователь Жозефа де Местра
— Вероятно, когда Вы задаёте этот вопрос, Вы отталкиваетесь от традиционной интерпретации Чаадаева как одного из тех, кто был близок к декабристам, как человека, который в своём «Философическом письме» обличил «мерзости николаевского режима». «Его письмо было, как выстрел в ночи», — написал Александр Иванович Герцен. Герцен вплёл Чаадаева в традицию освободительного движения, которую он вёл от декабристов, а советские историки начинали с Александра Радищева. Кажется, Ваш вопрос имеет смысл на фоне этих интерпретаций?
— Да, я задаю вопрос, исходя из хрестоматийного представления о западниках, но с подозрением, что это представление не совсем верно, что Чаадаев не родоначальник «русской освободительной мысли», а русский консерватор…
— Да, версию о том, что западник Пётр Чаадаев имеет то или иное отношение к революционному движению начал создавать Герцен. А теперь посмотрим на реального Чаадаева. Вы абсолютно правы. Чаадаев — это едва ли не двойник де Местра на русской почве. Никаких причин относить его к критикам николаевского режима, опираясь на тезисы его первого «Философического письма», нет.
Мало кто знает, что Чаадаев написал не одно, а восемь «философических писем». И все они были опубликованы лишь спустя век, в СССР в разгар большого террора в одном из толстых томов «Литературного наследства». И в этих письмах Чаадаев изложил свою достаточно оригинальную историософскую, философскую и богословскую систему. Он отталкивается, с одной стороны, от идей де Местра — его система буквально пронизана апологией католической церкви и папы Римского; Чаадаев был заворожён её стройностью, универсализмом, всемирностью и мечтал распространить эту власть на весь мир. Но в России этому мешало то обстоятельство, что она была православной. И вот та страшная критика, которую он обрушивает на Россию в первом «Философическом письме», на русский характер, русскую ментальность, обусловлена тем, что он был страстным филокатоликом. Таким же страстным, как Жозеф де Местр.
О Чаадаеве судят по первому «Философическому письму», из-за которого его обвинили душевнобольным и представили ему врача для наблюдения за его здоровьем, и «Апологии сумасшедшего». Но в «Философическом письме», за которое ему ложно приписывают революционную репутацию, мы не находим ни одной положительной черты в русской истории, в русском народе, в русском характере, кроме разве что «бессмысленной» воинской доблести. Той самой доблести, что и Жозеф де Местр ценил. Россия — это некий провал в истории. Россия — это Богом оставленная страна. Мы вечные кочевники, вечные странники. У нас не могут устояться никакие бытовые, государственные, религиозные формы. Россия — чёрная дыра, некое болото, в котором пропадают все высшие мотивы. И единственной вариант для спасения России — принятие ею католицизма. Вот рецепт Чаадаева. Причём католицизма самого жёсткого, консервативного, ультрамонтанского. Как у Жозефа де Местра.
Чаадаев — не прогрессист, не либерал, никакого отношения к так называемому русскому освободительному движению он не имеет. Он — жёсткий консерватор. Но он консерватор не русский, он сориентирован на ту же модель, которая вдохновляла де Местра. Чаадаев — это католический мыслитель. Причём в буквальном смысле этого слова мыслитель реакционный. Он восхищался кострами инквизиции. Ведь они горели во имя веры и торжества католической церкви. Такого рода детали, конечно, опускались в освободительной историографии, которая провела чудовищную вивисекцию взглядов и личности Чаадаева, представив его предтечей революционеров.
Имперская окраска
— Русский имперский национализм и русский консерватизм далеко не всегда не одно и то же. Вы согласны?

Константин Победоносцев (1827 — 1907) — русский государственный деятель, идеолог русского консерватизма, писатель, переводчик, историк церкви, профессор, действительный тайный советник
— В момент своего зарождения и развития русский консерватизм, безусловно, имел имперский характер. Русская монархическая самодержавная государственность — здесь можно спорить, что в ней имело подражательный характер по отношению к западноевропейскому абсолютизму, а что самобытный — существовала в форме империи. И, конечно, первые русские консерваторы — Александр Семёнович Шишков, Фёдор Васильевич Растопчин, Николай Михайлович Карамзин, Михаил Петрович Погодин, Степан Петрович Шевырёв, зрелый Александр Сергеевич Пушкин, Фёдор Иванович Тютчев — это имперские консерваторы. Для них империя — естественная форма русской государственности. Империя получила мощный импульс в XIX веке и расширила свои территории. И, конечно, сам имперский принцип не ставился русскими консерваторами под сомнение.
Однако в начале ХХ века в рамках русского консерватизма возникает течение русского национализма. Оно представлено яркими и талантливыми именами. Их помнят, их наследие издают. Вот, скажем, Василий Васильевич Розанов. В Петербурге (именно в Петербурге!) издана львиная доля его собрания сочинений. Сейчас том за томом издаётся литературно-публицистическое наследие Михаила Осиповича Меньшикова. Публикуется всё больше монографий и статей, посвящённых Алексею Сергеевичу Суворину, издателю газеты «Новое время» — одной из самых массовых и популярных консервативно-националистических газет начала ХХ века. Можно вспомнить ещё Василия Витальевича Шульгина, который в отличие от многих националистов был не только талантливым писателем, но и политиком-практиком, одним из лидеров фракции Всероссийского национального союза в Государственной думе. Эта организация называла себя националистической и в Думе служила опорой Петра Аркадьевича Столыпина. Это была его партия, его группировка. Причём она распространяла свою деятельность не только на Думу. Она действовали разных городах, особенно активно в юго-западном крае, где обострялся русский вопрос.
Националисты впервые поставили вопрос о пределах расширения империи, видя, что в Российской империи существуют целые регионы, где русификация невозможна. Они поставили вопрос об оскудении русского исторического центра, об истощении его. Повторюсь: это делалось задолго до появления писателей-деревенщиков второй половины ХХ века.
В какой мере эта традиция преобладала в русском консерватизме? В общем — она была! И была достаточно яркой, влиятельной, талантливой. Но вряд ли она была преобладающей. В тот период, в начале ХХ века, большинство консерваторов занимали черносотенные имперские позиции, состоя в правоконсервативных антиреволюционных организациях.

Николай Данилевский (1822 — 1885) — русский социолог, культуролог, публицист и естествоиспытатель; геополитик, один из основателей цивилизационного подхода к истории
Была ещё и небольшая, но очень талантливая и влиятельная группа консерваторов, связанная со сборником «Вехи». Это были бывшие марксисты и либералы, которые проделали большой путь от марксизма, прогрессизма, релятивизма и позитивизма вначале к идеализму, а потом к Церкви и православию. Обычно эту группировку, тоже очень талантливую и яркую, относят к либеральным консерваторам. Среди них наиболее известны Николай Александрович Бердяев, Пётр Бернгардович Струве, Семён Людвигович Франк, Сергей Николаевич Булгаков (впоследствии священник о. Сергий).
В начале ХХ века русский консерватизм, доселе относительно однородный, начинал активно расщепляться на отдельные течения. Вероятно, что он видоизменялся бы и дальше, но произошло то, что произошло — 1917 год.
В эмиграции наибольшее развитие, наибольшую известность приобрели те идеологи русского консерватизма, которые были связаны с либерально-консервативным течением: Пётр Струве, Николай Бердяев, Семён Франк. В конце концов, Иван Александрович Ильин, центральная фигура русского консерватизма в XX веке во многом тоже был связан с этой интеллектуальной традицией. И все они противопоставляли себя правым консерваторам- черносотенцам.
Так что говорить о русском консерватизме как о чём-то едином не приходится. Но русский консерватизм до 1917 года в целом имел имперскую окраску.
— Почему всё же русские консерваторы не смогли ни предупредить, ни остановить разрушение Российской империи и падение монархии? Их идеи не находили достаточный отклик в обществе, в народе? Или так думать — ошибка? В конце концов Союз русского народа был массовой организацией, и он сумел помочь власти умирить революцию 1905-1907 годов. А вот на 1917-й сил его уже не хватило…
— Давайте посмотрим на прогнозы русских консерваторов. Они точно, в деталях, предсказали весь тот ужас, беспрецедентный в мировой истории геноцид, разрушение русской цивилизации, начавшееся в 1917 году. В художественной форме это было выражено невероятно ярко. Достаточно вспомнить «Бесов» Фёдора Достоевского. Критика социализма — мощный интеллектуальный пласт русского консервативного наследия. Она начинается в 60-е годы XIX века. Очень много критики социализма есть в текстах Михаила Каткова, Николая Данилевского, Константина Победоносцева.

Лев Тихомиров (1852–1923) — был идеологом партии “Народная воля”. В эмиграции пересмотрел свои взгляды и стал убеждённым монархистом. Автор исследования “Монархическая государственность”
Мощная критика социализма и предсказание его ужасающих содержится в работах Льва Александровича Тихомирова. История Тихомирова — уникальна. Он входил в верхушку «Народной воли» и был её идеологом, одно время был женихом Софьи Перовской, которая организовала удачное покушение на Александра II. Оказавшись в эмиграции, он испытал экзистенциальный кризис, который превратил его из революционного нигилиста в глубоко верующего православного человека, монархиста, патриота, консерватора, одного из ведущих консервативных мыслителей России. Если мы посмотрим на его работы — «Почему я перестал быть революционером», «Социальные миражи современности», «Начало и концы» — то увидим блистательное предсказание тоталитарного режима, который установился после 1917 года. Тихомиров знал социализм не понаслышке. Он был великолепным знатоком всех социалистических учений, включая марксизм и был одним из практиков революционного движения. И его пророчества, предсказывания о гибели масс людей, о разрушении культуры, о закате нравственности, о грядущем распаде страны, о создании нового, усечённого, типа человека, которого и человеком-то назвать нельзя, подтвердились.
Но общество не слышало консерваторов. Русское общество, подошедшее к февралю 1917 года, находилось под сильнейшим воздействием освободительной идеологии, той освободительной традиции, которую её последователи ведут с конца XVIII века, начиная с Александра Радищева через декабристов, Александра Герцена и Николая Огарёва, Николая Чернышевского, деятелей «Земли и воли», «молодых штурманов будущей бури» из «Народной воли» и так далее — к большевикам. Эта традиция была мощнейшей. Творилась она ежедневно, самозабвенно, талантливо. Пафос отрицания всего окружающего, пафос уничтожения российской действительности, пафос отвращения к Православию, истории России, русским народным традициям, культуре преобладал в русском образованном слое. Достаточно сказать, что уже в 1870-80-е годы Победоносцев постоянно жалуется на то, что, несмотря на все цензурные усилия, несмотря на всё желание ограничить влияние либеральных и социалистических идей, 70-80 процентов русской прессы, газет и журналов, эти идеи разделяли. Они высказывались в подцензурной форме.
Используя термин Льва Николаевича Гумилёва, можно утверждать, что в русском обществе возникла антисистема — влиятельнейшее интеллектуальное сообщество, объединённое пафосом отрицания всех исторических русских форм: православия и самодержавия. Несмотря на декларируемое народолюбие, представители этого течения либо реальный народ не знали, либо, столкнувшись с ним, начинали его ненавидеть. Отсылаю вас к мемуарам народников, которые были крайне разочарованы хождением в народ.
Петербург начинает лидировать
— Творческое наследие русских консерваторов представляет сегодня исключительно академический интерес? Или, на Ваш взгляд, оно ещё актуально? Например, глава российского государства, по всей видимости, читает Ивана Ильина, если на него ссылается. Но дело пока ограничивается красивыми фразами о России. Можно ли какие-то идеи русских консерваторов прошлого применить сегодня в политике?

Иван Ильин (1883 — 1954) — русский консервативный философ. Был среди тех, кого большевики в сентябре 1922 года выслали на “философском пароходе”
— Да, действительно, Путин иногда цитирует Ивана Ильина. Более того, в его работах можно встретить цитаты ещё нескольких русских консерваторов: если не ошибаюсь, Николая Бердяева, Алексея Фёдоровича Лосева, Константина Леонтьева. Но это не суть важно. Скажем, выступая на последнем Валдайском форуме, он себя назвал умеренным консерватором. Прозвучало определение: наш умеренный консерватизм. Но значит ли это, что Путин и его кружение — это идейные консерваторы?
Давайте осознаем следующее: после 1917 года русский консерватизм исчез на долгие десятилетия. Исчез как сколько-нибудь организованная политическая сила, как сколько-нибудь значимое интеллектуальное течение в Советской России и в СССР. Консервативные воззрения развивались в русской эмиграции. Деятелями русской эмиграции была выполнена её высочайшая миссия: они сохранили русский логос, русскую идею они развили и приумножили. Правда, конечно, в полном отрыве от той почвы, которая исходно породила эти идеи. Тем не менее русская политическая мысль, русская философия в зарубежье — это колоссальное интеллектуальное достояние не только России, но и человечества. Мы до сих пор лишь только прикоснулись, прошли по поверхности этого колоссального наследия. И тут много ещё предстоит сделать.
В самом же СССР консерватизм и консерваторы подлежали немедленному уничтожению. Буквально. Исчезли не только политические группировки, политические партии и союзы. Уничтожалась их прежняя литература, периодика. Физические носители русского консерватизма были первыми жертвами красного террора и чисток, гибли в ГУЛАГе. Этот огромный слой русских патриотов был уничтожен.
Отдельные всполохи тех идей, тех умонастроений, которые были характерны для русского консерватизма, мы видим только в предвоенные годы, когда русские патриотические настроения, очень выборочные и тщательно препарированные элементы русского исторического нарратива, русской культуры использовались в военной пропаганде в рамках советского патриотизма.
Тем не менее, и после войны этот процесс, пусть со значительными спадами, шёл по нарастающей. И в 1960-е годы ХХ века мы видим зарождение литературной «русской партии» с мощными советофильскими мотивами, я бы даже сказал — неосталинистскими. Но там было и правое крыло, которое было патриотическим, антикоммунистическим: Игорь Вячеславович Огурцов, Леонид Иванович Бородин, Александр Исаевич Солженицын, Игорь Ростиславович Шафаревич, Владимир Николаевич Осипов и ряд других. Но о существовании в СССР сколь-нибудь серьёзной организованной консервативной традиции говорить не приходится. В оппозиции советскому режиму абсолютно преобладали либералы-западники, активисты еврейского движения за выезд из СССР и национал-сепаратисты, например, украинские националисты.

Василий Розанов (1856 — 1919) — русский религиозный философ, литературный критик и публицист
И вот на этом фоне в конце 1980-х — начале 1990-х годов происходит эдакое историографическое чудо. Произведения русских и западноевропейских консерваторов начинают издаваться массовыми тиражами. Причём они пользуются колоссальным спросом. Появляются историки, политологи, философы и их сотни, а то даже и тысячи, которые занимаются теми или иными аспектами истории русского и западноевропейского консерватизма. Сам факт явления подобного рода даже просто в количественном отношении — феномен отнюдь не случайный. Здесь есть логика. Вопреки иллюзиям современных неосоветистов то, что произошло в конце 80-х — начале 90-х годов, — закономерно. Социалистическая система, а затем Советский Союз рухнул, распался. Социалистическая модель, социалистические идеалы, были скомпрометированы как в массовом сознании, так и в сознании элит. Это жёсткий абсолютный факт, с которым не поспоришь.
В 1992 году Россия над Россией начал ставится другой эксперимент, не менее, а зачастую и более разрушительный по своим последствиям, чем коммунистический — либеральный. Начинается время Егора Гайдара, Андрея Козырева, Бориса Ельцина — эпоха 90-х годов. Либеральные ценности господствуют в дискурсе правящего слоя или почти господствуют — и в тоже время нарастает их критика. Критика жёсткая и нелицеприятная. И что мы видим: примерно к середине 90-х годов в сознании интеллектуального слоя и в сознании массовом оказались скомпрометированными две модели: вначале социалистическая, а затем либеральная. И соответственно в этих условиях в публичное интеллектуальное, культурное и политическое пространство постепенно стала выходить идея консервативная. Идея особого пути, идея самобытности, идея суверенности, идея русской цивилизации, всё то, что было так или иначе связано с русской консервативной традицией. В общем-то эта тенденция с тех пор идёт по нарастающей.
Я это говорю, что называется, не понаслышке. Дело в том, что я, как и Ваш предыдущий собеседник на эту тему Андрей Иванов — из тех исследователей, кто активно занимался всей этой проблематикой, в какой-то мере способствовал формированию академического сообщества, которое занималось проблематикой, связанной с историей консерватизма. Я очень внимательно слежу за библиографией, историографией, я отслеживаю по возможности буквально каждую статью, каждую конференцию, сборник, монографию, публикации источников, которые появляются по этой теме.
Так вот: некоторое замедление этого интенсивного процесса произошло в последние годы и связано с тем, что пришла пора создания (я пока говорю исключительно о науке, о научном дискурсе) обобщающих исследований. В предшествующую пору преимущественно писали об отдельных персоналиях, увлекались издательской деятельностью, переизданием источников и т.д. Теперь же в научном плане ставится задача концептуального осмысления, создания большого нарратива, больших работ. Вот сам я сейчас занимаюсь созданием «Общей истории русского консерватизма XIX-XXI веков».
А теперь вернёмся к политическим процессам. Научные процессы связаны тысячу нитей с общей жизнью страны. Исследователь, учёный занимается тем, чем занимается, не потому, что ему это нравится, а потому что в его тематике есть определённая потребность, общественная потребность или некий запрос. Может, ещё невнятный, не высказанный, но тем не менее реально ощущаемый, реально, так сказать, разлитый в воздухе. Эта потребность проявилась и на политическом уровне.
И вот мы видим, что уже в конце 80-х годов в общественном и политическом движении появился лагерь консерваторов-патриотов. Пусть он был небольшим количественно, но он состоял из очень заметных и известных фигур, это были люди, которые жёстко отмежевывались как от коммунистов, так и от либералов. В идейном плане наиболее видные представители этого течения — Александр Исаевич Солженицын, Игорь Шафаревич, Леонид Иванович Бородин. На политическом уровне эта тенденция представлена депутатами Верховного Совета Виктором Аксючицом, Михаилом Астафьевым, Николаем Павловым и рядом других, например, Дмитрием Рогозиным. Они называли себя христианскими демократами, конституционными демократами, но было ясно, что они пытаются создать альтернативу, которая была бы свободна от коммунистических и либеральных программ. И они естественным образом обращались к идеям русского консерватизма.
Дальше, в 1995-1996 годы, в общероссийском масштабе это проделала такая организация, как «Конгресс русских общин» Дмитрия Олеговича Рогозина. В наши дни консервативную риторику перехватила сама власть. Она пыталась это делать ещё во второй половине 90-х годов — уже «Наш дом Россия» называл себя консервативным. Что касается «Единой России», то она неоднократно заявляла о себе как консервативной партии. Я не говорю ничего о качестве подобного консерватизма и об искренности подобных заявлений. Тут уместно вспомнить Владислава Суркова, который как-то заявил — и эту формулу стоит запомнить: «Мы, конечно, безусловные консерваторы, хотя пока и не знаем, что это такое». Очень хорошая самохарактеристика для официального консерватизма.
В 2014 году, когда в самом деле произошёл тектонический сдвиг, мы видим, что в официальной риторике появляется несколько принципиально новых моментов, которые ранее в ней отсутствовали: представление о русских как о крупнейшем разделённом народе, мотивы преемственности с историческим процессом тысячелетней России, стали говорить о заложенной большевистской национальной политикой (создание этнических республик) бомбе под единую Россию, появились апелляция к консервативным и традиционным ценностям. Между прочим, выступая на одном из заседаний Всемирного русского собора, Владимир Путин даже озвучил тезис о русской цивилизации. А это тот концепт, который традиционно разрабатывали русские консерваторы. Таким образом, мы видим, что консервативная риторика, как и консервативные формулы начали постоянно использоваться в текущем политическом процессе.
Я повторюсь: я не ставлю вопрос об искренности и качестве этих процессов. Тут можно предъявлять колоссальные, огромные претензии. Я лишь фиксирую то, что это несомненно происходит. Виден непрерывный растущий системный интерес к консервативному прошлому. Я знаю, что в некоторых властных структурах и связанных с ними организациях есть люди, которые целенаправленно занимаются изданием консервативного наследия, осмыслением его, формулированием того, что можно было бы назвать современным консерватизмом. Вот, например, ИСЭПИ — Институт экономических и политических исследований выпускает интереснейшие издания. Альманах «Тетради по консерватизму» — я рекомендую их и Вам, и всем тем, кто заинтересуется нашей беседой. Электронная версия этого издания есть. Благодаря ему можно узнать, что такое современный провластный консерватизм. Это прекрасная иллюстрация к тем словам, что я сейчас произнёс.
— А как часто консерваторы находились в оппозиции, выступая, по сути, таким образом за перемены?
— На самом деле консерваторы часто бывают в оппозиции к власти. Это левые и либеральные оппоненты изображают их бездумными охранителями с рептильным поведением. Это в общем-то мало соответствует исторической правде, исторической действительности. Скажем, Шишков, Растопчин, Карамзин, Глинка находились в очень жёсткой оппозиции к Александру I. Дело доходило до прямых заявлений с его стороны, что он не желает видеть этих людей и скорее готов отказаться от престола, чем увидеть того же Шишкова или Растопчина в Зимнем дворце.
Но их идеи, их ставка на русский патриотизм, на борьбу с галломанией, а, соответственно, формирование ими начального варианта русского консервативного проекта, который бы ориентировался на собственную культурно-историческую традицию неожиданно для Александра I нашли взрывной спрос начиная с 1807 года. Тогда Россия была вынуждена заключить Тильзитский мир с Наполеоном и стало ясно, что большая война с Францией неизбежна.
И вот эти «городские сумасшедшие», маргиналы совершают к 1812 году стремительный карьерный взлёт. Шишков занимает место государственного секретаря вместо опального Сперанского. Что это за место? Да это второй пост в империи после императора! Шишков, по сути, стал главным ритором, главным идеологом Отечественной войны 1812 года. А Растопчин, которого Александр I реально люто ненавидел, становится диктатором Москвы, генерал-губернатором и главой земского ополчения. Он сыграл колоссальную роль в событиях 1812 года. Он организовал сожжение Москвы, то есть создал необходимое условие для поражения наполеоновской армии. Кстати говоря, благодаря их деятельности (в их ряды надо добавить и Карамзина, и Аракчеева) и русский консерватизм превращается в постоянно действующий фактор русской истории. Благодаря тому, что они были одними из главных творцов победы, которая обеспечила России гегемонию в Европе едва ли не до начала Крымской войны.
Или взять славянофилов — это же оппозиция Николаю I. А если говорить о почвенниках, неославянофилах, о том же Леонтьеве, Тихомирове, эти люди никогда не отождествляли себя целиком и полностью с центральной наличной властью. Это были часто жёсткие беспощадные нелицеприятные её критики. И, кстати, консервативные издания подвергались зачастую куда большим цензурным гонениям, чем либеральные или социалистические, которые выходили в подцензурных условиях.
— Не кажется ли Вам, что за последние сто лет Петербург из символа перемен превратился в символ консерватизма? Даже русским монархистам, похоже, более люб петербургский период, нежели уже полумифический московский. В Петербурге всё напоминает о монархии, о Российской империи: Зимний дворец, дворцы великих князей, особняки вельмож, усыпальница императоров, гвардейские казармы… Недаром те, кто себя считает наследниками Дома Романовых, приезжают венчаться в Петербург. Если в России действительно произойдёт консервативный ренессанс, какая роль, на Ваш взгляд, в этом процессе уготована северной столице?
— Я в малой степени знаю те процессы, которые происходят в Северной столице. Но я впервые ощутил красоту русской имперской идеи ещё в студенческие годы в начале 1980-х годов, когда нас повезли на педагогическую практику в Санкт-Петербург. Я буквально был ошеломлён Невским проспектом, центром северной столицы, потрясён его архитектурой, и буквально влюбился в этот город. Антипетербургские ламентации (от лат. Lamentatio — стенания — прим. ред.) русских консерваторов XIX века сейчас — это предмет академического изучения, нежели живое чувство, которое коренится в глубинах современного консервативного духа и сознания.
Так вот: я скажу со своей научной колокольни: да, в 90-е годы безусловным лидером в изучении русского консерватизма, в издательской деятельности, в создании всякого рода консервативных объединений и организаций была Москва. Но сейчас я вижу, что лидерство постепенно переходит к Петербургу. Издательство «Пушкинский дом» успешно завершило издание полного собрания сочинений Константина Леонтьева. Это грандиозный проект, осуществлённый учёными, которые там работают. Они совершили научный подвиг. Ольга Леонидовна Фетисенко — один из моторов этого проекта. Они не просто опубликовали гигантский объём текстов, но и сопроводили их тонкими и точными научными предисловиями и комментариями.
Или взять издательство «Росток» — это нечто совершенно уникальное для современной русской культуры. Это практически полностью изданный Василий Розанов, это дневники Михаила Пришвина, это продолжающееся издание сочинений Константина Аксакова, Ивана Аксакова, Тютчева, Киреевского, Шевырёва, Хомякова. Это просто фабрика по актуализации и возрождению консервативного наследства. Ничего подобного в Москве я не вижу сейчас.
Или вот это замечательное издательство Русской христианской гуманитарной академии “Pro et contra”. Уже выпущены десятки толстенных томов, посвящённые русскому консерватизму. Эта серия не имеет московских аналогов. Есть и издательство «Владимир Даль», которое публикует преимущественно западноевропейских консервативных мыслителей.
В Петербурге также появилась целая плеяда учёных, занимающихся историей русского консерватизма — очень тонких, очень умных и работоспособных: Андрей Александрович Иванов, выпустивший монографии о русских дореволюционных правых в Государственной Думе, о Владимире Митрофановиче Пуришкевиче, о русских националистах начала XX века, Александр Эдуардович Котов — создатель целого монографического цикла, посвящённого великому консерватору-государственнику Каткову и его окружению. Интересные исследования русского консерватизма и русской церковной истории, а они очень тесно связаны, ведёт петербуржец Юрий Евгеньевич Кондаков. Или же автор совершенно изумительных по глубине и охвату темы монографий о Розанове или о Николае Николаевиче Страхове — Валерий Александрович Фатеев. Или «Русско-византийский вестник», который издаётся в Санкт-Петербурге в Православной духовной академии. В каждом его номере стараниями Игоря Борисовича Гаврилова появляются чрезвычайно интересные материалы по истории конкретных периодов русского консерватизма. Я назвал лишь некоторых людей, с которыми лично знаком, но их, конечно, гораздо больше.
С моей точки зрения, хотя бы вот в этом отношении Петербург начинает лидировать в стране и в данном случае Москва ему начинает уступать.
— В эти дни исполняется 300 лет со дня объявления России Империей. Фанаты «Зенита» на матче Лиги чемпионов с итальянским «Ювентусом» вывесили изображение Петра I с надписью на английском «Российская империя. 22.10.1721», в прессе вышло несколько статей, было организовано несколько выставок на эту тему. Но официальная пропаганда не заметила этот юбилей. Как Вы думаете, почему нынешняя власть не хочет, чтобы современная Россия считалась не только правопреемницей СССР, но и Российской Империи?
— Начнём с конца. Действительно наша элита, под ней мы будем понимать прежде всего тот слой, который обладает монополией на принятие решений в сфере политики, экономики, культуры и т.д., органически не приемлет идею правопреемственности с тысячелетней историей России. Объясняется это следующим обстоятельством: наша элита является продолжением того правящего слоя, который сформировался после катастрофы 1917 года. Иначе говоря, нынешняя элита является преимущественно продолжением советской партийной и хозяйственной номенклатуры. Она обладает родовыми признаками этого слоя, чрезвычайно замкнута, для того чтобы попасть в правящий слой, необходимо пройти множество фильтров, множество проверок и «инициаций», что исключает попадание в него случайных людей. Этот слой, за отдельными исключениями, не чувствует ни малейшей связи с дореволюционным прошлым, с дореволюционной традицией. И в целом, несмотря на то, что по некоторым количественным и качественным характеристикам он отличается от традиционной советской номенклатуры, его можно обозначить как постноменклатурный. Это важно подчеркнуть.
Ещё один пример, исключительно важный. Вот — 1917 год. Сколько представителей прежней имперской элиты вошло в состав новой советской номенклатуры? Ответ очевиден: ни одного человека. Если говорить именно о политической номенклатуре, политической элите. Вопрос второй. А сколько представителей традиционной коммунистической номенклатуры брежневской и горбачевской вошло в состав ельцинской элиты в 90-е годы, и продолжает занимать лидирующие позиции сейчас? Ответ очевиден: большинство. Подавляющее большинство. Поэтому органическое неприятие дореволюционной традиции нынешней элитой абсолютно неудивительно.
https://rodinananeve.ru/arkadij-minakov-russkoe-obshhestvo-ne-slyshalo-konservatorov/
Предлагаю уточнить понятие консерватизма
М.В. Назаров:
Многоуважаемый Аркадий Юрьевич! Благодарю Вас за эту интересную беседу, предложенную Вами также и для публикации на РИ, и за согласие уточнить в ней некоторые моменты.
Предлагаю начать с понятия консерватизма, чтобы далее использовать этот критерий более точно. Сегодня многие называют себя "консерваторами" и в патриотической оппозиции нынешнему Олигархату, и даже некоторые их противники ‒ мелькнувшие в Вашей беседе высшие представители правящего слоя. И даже марксист-ленинец Зюганов недавно объявил себя "православным консерватором"... Разумеется, такого быть не может. И тем более в масштабе истории России и всего человечества.
Вы даете такое определение консерватизма: «Консерватизм опирается на национальные традиции, на их истолкование», отмечая в то же время что «традиции у всех разные, поскольку у всех разные истории. В этих самых разных исторических процессах складываются разные формы религии, разные формулы человеческого поведения, разные правовые представления и пр. То есть то, что Леонтьев называл "цветущей сложностью", цивилизационной сложностью, как раз в наибольшей степени выражается и ценится консерваторами, именно поэтому они — разные».
При этом нам, православным, ясно, что не могут все консерватизмы быть равноценными и богоугодными. Истинный консерватизм может быть только верным хранением Божественной Истины. Ведь человек был изначально создан Богом с определенным Замыслом о нем и с единым пониманием Бога, от чего люди уклонились, греховно злоупотребляя дарованной им свободой и подпадая под соблазны и власть сатаны. Поэтому, с моей точки зрения, определение Леонтьева "цветущая сложность" тут приукрашивает глубинную суть проблемы, то есть разнообразные формы отхода от Истины в разные стороны при абсолютизации каждой цивилизацией своей национальной формы. И эти разные цивилизации в истории соперничают друг с другом, воюют, некоторые могут быть даже враждебными истинному консерватизму.
Поэтому, мне думается, тут необходимо всё же сразу отметить истинную точку отсчета консерватизма как верности изначальному Замыслу Божию, а это Православная религия спасения в Царство Небесное и соответствующая идеология устройства земной государственной жизни в мiре, во зле лежащем. (На эту тему в 2000 г. у меня была беседа на радио: "Разные уровни и первичный смысл консерватизма".) И тогда все прочие консерватизмы, сохраняя верность своим национальным традициям, все-таки имеют лишь субъективное местечковое или клановое значение. Хотя некоторые могут совпадать с православной позицией в обороне от явного зла и греха современного мiра, и такие политические оборонные союзы желательны (так Император Павел шел на союз с еретиками-католиками в противодействии Французской революции), но всё же с этой точки зрения, ни де Местр, ни тем более его русский поклонник Чаадаев настоящими консерваторами в православном понимании считаться не могут.
Вы правильно отмечаете, что для сформировавшегося в начале XIX века русского консерватизма были характерны такие общие черты, как реакция на Французскую революцию, стремление к "сильной, централизованной, мощной иерархической власти", уважение исторической роли Православия. Однако в то же время имелись и существенные расхождения, выявившиеся в путях дальнейшего развития, тем более в ХХ веке, очевидные именно с точки зрения православного богословия и православной идеологии. Вы готовите «Общую историю русского консерватизма XIX-XXI веков». Быть может, следует в ней применить предлагаемый мною критерий консерватизма ‒ и строже отнестись ко многим упомянутым Вами представителям консерватизма (Бердяев, Розанов, Меньшиков и др.), включая и современных деятелей?
А.Ю. Минаков:
Многоуважаемый Михаил Викторович!
Я крайне признателен за возможность уточнить по ряду важных моментов свою позицию. Ваши вопросы очень значимы, поскольку Вы несомненно являетесь одним из самых ярких и глубоких представителей современной русской консервативной мысли. Соответственно, Вы видите обсуждаемые проблемы не в рамках сухого “академического дискурса” (хотя Вы его знаете значительно лучше многих узких специалистов), а являетесь живым и действующим представителем этого течения, то есть, несколько перефразируя известную фразу Густава Малера, передаёте огонь, а не поклоняетесь пеплу.
Вы совершенно правы, что приведенное в тексте интервью определение консерватизма слишком краткое и далеко не полностью отражает всё ценностное и идейное богатство этого течения. Я, вслед за К.Н. Леонтьевым, лишь подчеркнул, что он имеет, в отличие от либерализма и социализма, восходящих к рационалистическому и космополитическому “просвещению”, чётко выраженную национальную и цивилизационную специфику, отражает ту “цветущую сложность”, которая обусловлена особенностями религии, культуры и т.д. Консерватизм историчен. В отличие от социализма и либерализма, строящихся на неизменных просвещенческих ценностях, с трудом окрашивающихся в какие-либо национальные цвета, он всегда зависит от культурно-исторического контекста.
Но если давать более развёрнутую дефиницию, то необходимо добавить следующее. Русский консерватизм по своему духовному, интеллектуальному, нравственному и эстетическому потенциалу, по объёму своего наследия и значимости, абсолютно превосходит либерализм и социализм, возникшие на русской почве. Можно называть сотни великих имён, укоренённых в русской жизни, но я ограничусь основными: Державин, Карамзин, Шишков, продолжатели-апологеты Карамзина – Уваров, Жуковский, зрелый Пушкин, в какой-то мере Федор Тютчев; далее Гоголь, славянофилы, Данилевский, Достоевский, Леонтьев, Тихомиров, Ильин, Солоневич, Солженицын, Шафаревич, Бородин. Все они – своего рода культовые имена в национальном русском пантеоне, русской культуре и русской мысли.
Ядром консервативного мировоззрения является традиция, позитивные ценности, освященные Божественным авторитетом, авторитетом предков, которые обеспечивают органическое развитие общества, исключают кровавые революции и мало чем от них отличающиеся по своим последствиям «радикальные реформы”. Консерватизм буквально пронизан культом традиции. А традиция зиждется прежде всего на религии, культе трансцендентного начала. Религия придает смысл истории и отдельной человеческой личности, обеспечивает связь человека с Творцом, освящает божественный порядок, его основные установления, устанавливает связь с бесчисленными поколениями предков, сплачивает, очищает общество, указывает ему высшие ценности. Для России главенствующей религией, оказавшей огромное влияние на складывание государственности, культуры, национального самосознания, является Православие. Религиозное мировосприятие предполагает признание тех принципов, которые являются основополагающими для консерватизма.
Ключевой из них – иерархия. Структура бытия в консервативном, как и в религиозном христианском сознании, иерархична. Есть небесная иерархия, и, соответственно, общественная иерархия как отражение небесной. Отсюда – консервативное убеждение, что в обществе всегда и при всех условиях будут верхи и низы, будут отношения господства и подчинения. А в нашем греховном мире всегда будут существовать в той или иной форме принуждение и насилие.
Соответственно, консерватизм исходит из естественного неравенства людей. Консерваторы акцентируют внимание на том, что люди не равны ни по биологическим параметрам, ни по уму, ни по нравственному облику и т.д. И это фундаментальный факт, который необходимо признать и строить на нем любые стратегии.
В силу признания объективного факта естественного неравенства для консерваторов характерен поиск властных, экономических, идеологических и культурных технологий, которые бы позволяли сформировать качественную элиту, готовую во имя высших ценностей жертвовать своей жизнью. Элиту, которая была бы сориентирована на решение общенациональных задач, а не на удовлетворение собственных узкоэгоистических интересов или создание утопического общества всеобщего равенства без элиты. Большое значение для консерваторов имеют те слои народа, которые глубже укоренены в традиции и обеспечивают ее продолжение. Если говорить о русском обществе до 1917 года, то, конечно, имеются в виду такие слои, как дворянство, духовенство, купечество, крестьянство. Консерваторы рассматривают народ как сложный иерархичный механизм, составные части которого тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Классовой борьбе и классовому подходу здесь нет места или же он играет совершенно другое назначение, нежели в левых доктринах. Каждая часть выполняет особую функцию в интересах всего организма. Приоритетное значение в консервативном сознании имеют интересы целого и поэтому бессмысленно говорить об особых интересах части, тем более создавать для нее особую защитную идеологию, которая бы противостояла интересам целого, стремясь перестроить его в свою пользу.
Религиозная составляющая консерватизма обуславливает гносеологический пессимизм. Будучи христианином и религиозным человеком, консерватор испытывает определенные скептическое отношение к возможностям человеческого разума; в других идеологиях он всесилен. Просвещенческий Ratio, неприятие абсолютизации его возможностей, крайне осторожное отношение к кабинетным схемам радикального переустройства человеческого общества – характерная особенность консервативного сознания.
Религиозное мировосприятие диктует консерватизму антропологический пессимизм. Консерваторы заимствуют из христианства, у святых отцов понимание ограниченности, несовершенства человеческой природы, её греховности. Человеческая природа одержима силами зла, исключает принципиальную осуществимость в земных условиях идеального общества, а раз так, раз человеческий разум ограничен, раз человеческая природа несовершенна, – для консервативного сознания характерна высокая оценка всего того, что корректирует разум, что сдерживает злые человеческие инстинкты.
Для консерваторов характерна высокая оценка сильного государства, его приоритет над интересами индивида. Я, конечно, говорю о большинстве течений русского консерватизма. И, с точки зрения большинства русских консерваторов, главенствующее значение имеют интересы целого, а все же не отдельной индивидуальности. Важны прежде всего надиндивидуальные ценности: Бог, Церковь, нация, семья и т.д.
Все вышеперечисленные ценности, институты нуждаются в надежной защите, каковой в первую очередь выступает государство. Поэтому русский человек с консервативным мироощущением не может не быть государственником.
Для консерватизма характерен культ школы, армии, патриотизма, самобытной национальной культуры, исполнительности, дисциплины, порядка, жесткого права, то есть тех общественных институтов, традиций и явлений, которые выступают основными трансляторами, проводниками, хранителями традиций.
Отсюда же другая черта консервативного сознания – понимание конкретно- исторической обусловленности уровня прав и свобод в наличном обществе: нельзя быть свободным больше, даже формально, чем ты свободен внутренне.
Консерватизм, естественно, противостоит как социалистическим идеологиям, так и либерализму, в основе которых лежат ценности прямо противоположного порядка. Назовем их: атеизм, культ рассудка, антитрадиционализм, космополитизм, приоритет интересов индивида над интересами государства, вообще индивидуализм, культ личных прав и свобод, приверженность к кабинетным теоретическим моделям, культ перемен, революции.
Было бы неверно трактовать консерваторов как противников всего нового. Нет, они выступают лишь против абсолютизации самого принципа новизны, заведомого примата нового перед уже проверенным старым, что обычно характерно для радикального либерализма и более левых течений. Новое – не всегда лучшее, и для консерватизма характерно благоговение перед бытием, бережное отношение к миру, поскольку он создан Творцом, и отсюда вытекает его неприятие всякого рода радикальных потрясений. В случае абсолютной необходимости социальных перемен консерватизм требует при их осуществлении чрезвычайной осторожности и постепенности: необходимы только те преобразования, которые абсолютно назрели, только те преобразования будут органичными, которые будут учитывать прежнюю традицию, прежний опыт.
И, соответственно, расширение гражданских прав и свобод, с точки зрения консерваторов, возможно только в том случае, когда оно не сказывается отрицательным образом на высших интересах общества и государства. Свобода должна быть ответственной и не противоречить нормам нравственности, не переходить ко вседозволенности. Поэтому эгоистический индивидуализм либерального образца является объектом принципиального неприятия со стороны консерваторов.
Завершая это длинное рассуждение об основополагающих признаках консерватизма подчеркну, вслед за Вами, самое важное обстоятельство. У нас, русских, наша консервативная традиция, наше консервативное мировоззрения базируется на Православии, как единственно верной религии спасения в Царство Небесное. Из всех сколько-нибудь авторитетных общественных и государственных сил только Православная Церковь, являющаяся хранителем религиозной традиции, в наибольшей степени дает точную и последовательную оценку интеллектуальным, нравственным, эстетическим патологиям надвигающегося «brave new world».
Главным течением в русском консерватизме изначально было то, для которого приоритетными ценностями выступали Православие, сильное централизованное государство – самодержавная монархия, базирующееся на религиозно-нравственном идеале и русский патриотизм. И, соответственно, наиболее развитые классические формы русского дореволюционного консерватизма являлись своего рода теоретически развернутым обоснованием формулы, которую четко сформулировал в царствование Николая I министр народного просвещения Сергей Семёнович Уваров: Православие, самодержавие, народность, – знаменитая уваровская триада. И всякая серьезная русская консервативная рефлексия неизбежно затрагивала, обосновывала те или иные члены триады или же отталкивалась от них.
В силу религиозной чуждости ни социально-политическая философия ультрамонтана Жозефа де Местра де Местра, ни взгляды его русского последователя филокатолика П.Я. Чаадаева не могут в принципе органичными для стержневого направления русского консерватизма. Разумеется, какие-то элементы воззрений зарубежных консерваторов могут быть использованы в идеологических поисках русских консерваторов, как на практике происходило неоднократно, но – не более того.
Теперь несколько слов относительно более строгого отношения с точки зрения главного критерия русского консерватизма – точности следования религиозной Православной традиции – к таким фигурам, как Николай Бердяев, Василий Розанов, Михаил Меньшиков. Да, этот критерий применим к оценке их взглядов. Они, безусловно, не принадлежали к магистральной линии развития русского консерватизма, заданной взглядами Шишкова, Карамзина и Уварова. Но элементы консервативного мировоззрения в их трудах безусловно были: так, я считаю, что мучительно и глубоко осмысливающий пережитую им русскую Катастрофу Бердяев в пореволюционные годы создал труды, пронизанные консервативным пафосом иерархии и пониманием высокой ценности религии, государства, нации – «Философию неравенства» и «Новое средневековье», Розанов, при всех его духовных метаниях, создал изумительные по точности и красоте интеллектуальные биографии русских консерваторов (Леонтьева, Страхова, Говорухи-Отрока и т.д), подверг уничтожающей критике с вполне консервативных позиций всех «освобожденцев»: от «шестидесятников» до большевиков, националист Меньшиков внёс немалый вклад в осознание проблем русского народа в начале XX века (пределы расширения Империи, невозможность русификации отдельных окраин, оскудение русского центра и пр.).
М.В. Назаров:
Аркадий Юрьевич, благодарю Вас за развернутое уточнение. Цель Вашей готовящейся книги мне стала понятнее, желаю в этом успеха. Мне хотелось бы, чтобы и Вам было понятнее мое отношение к данной теме, поскольку она касается не только прошлого, но и настоящего, и это я не мог оставить тут без своего комментария. Рад, что он превратился в содержательную беседу с Вами.
Вы трактуете консерватизм как "культ традиции" и "иерархия". «Консерваторы рассматривают народ как сложный иерархичный механизм, составные части которого тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены». Особо важно противостояние разлагающему либерализму, легализующему грех, тогда как государство скрепляют «надиндивидуальные ценности: Бог, Церковь, нация, семья».
Разумеется, это правильное определение государственного консерватизма, с которым я согласен, хотя оно таково только по форме, не по содержанию. Оно типично для любой цивилизации, а в европейской, например, вполне подходит к классическому фашизму Муссолини, который выступил против масонской демократии, но имел внутренние (нехристианские, языческие) пороки, причем демократические победители его демонизировали, порицая в нем именно то ценное (христианский корпоративизм), что Вы отмечаете как должные черты консерватизма.
Я же в понятие консерватизма вкладываю не только внешние признаки и даже не сложившуюся традицию, но и ее духовное, историософское содержание. Оба наши подхода имеют право на существование с пояснением выбранных рамок рассмотрения этой темы, в том числе в отношении нынешней власти в РФ.
В частности, Вы признаете, что «нынешняя элита является преимущественно продолжением советской партийной и хозяйственной номенклатуры. Она обладает родовыми признаками этого слоя, чрезвычайно замкнута, для того чтобы попасть в правящий слой, необходимо пройти множество фильтров, множество проверок и «инициаций», что исключает попадание в него случайных людей. Этот слой, за отдельными исключениями, не чувствует ни малейшей связи с дореволюционным прошлым, с дореволюционной традицией». Следует также добавить, что в этом слое преобладает мiровоззренческое желание быть принятыми в западный антихристианский Новый мiровой порядок.
А такие "консерваторы" в нынешнем правящем слое РФ, как Сурков и Путин, хотят всего лишь законсервировать свой режим, противоречащий Вашему определению русского консерватизма, ‒ совершенно противоположный русской национальной традиции и осознанию русского народа как соборной личности. Этот их государственный "консерватизм" (охранительный и от чрезмерных претензий Запада, и от собственного народа) узаконен олигархической "многонациональной" конституцией, умножением карательных "экстремистских" статей в УК и усиленным финансированием Росгвардии. К сожалению, и нынешнее церковное руководство понимает свой консерватизм как жреческое служение любой власти, которой якобы не бывает "не от Бога". Однако нетрудно предположить, что в нынешних условиях (в стране и мiре) либерально-майданный бунт привел бы к власти в России правителей, еще более враждебных русской традиции.
Понимая это, отвергая революцию и надеясь на эволюцию, Вы делаете такую оговорку относительно признаков консерватизма у отдельных лиц в нынешнем правящем слое: «Я не ставлю вопрос об искренности и качестве этих процессов. Тут можно предъявлять колоссальные, огромные претензии. Я лишь фиксирую то, что это несомненно происходит. Виден непрерывный растущий системный интерес к консервативному прошлому. Я знаю, что в некоторых властных структурах и связанных с ними организациях есть люди, которые целенаправленно занимаются изданием консервативного наследия, осмыслением его, формулированием того, что можно было бы назвать современным консерватизмом». ‒ Дай-то Бог... Хотя в воззрениях нынешних "консерваторов" много чего намешано (я уже откликался на их поиски "консенсуса": Истинная идея России может быть только одна: познание Замысла Божия о России и следование ему).
Как я понимаю замысел Вашего труда о консерватизме, Вы хотите способствовать более здоровым консервативным тенденциям в современной России для противодействия худшему, ‒ и я это не могу не одобрять. Поэтому не стану далее задавать вопросов об отдельных упомянутых Вами представителях русского консерватизма, тем более что уже высказал о них свое мнение в биографических статьях календаря "Святая Русь", в том числе о Солженицыне, Шафаревиче, Бородине. Возможно, в этих рамках и Вы с какими-то моими оценками согласитесь.
И раз уж тема русского консерватизма у Вас рассматривается с XIX века, то, оставаясь в Ваших рамках ее рассмотрения, мне кажется уместным подчеркнуть его изначально оборонительный характер от духа времени, в чем заключалась его слабость. Ваш собеседник отмечает как "противоречие" то, что «Русский консерватизм, да и консерватизм вообще, зародился, когда столицей России был Санкт-Петербург. Но известно, что многие консерваторы Петербург не любили, считая его символом космополитизма и вестернизации России. То есть, с одной стороны, получается, что Петербург — город не совсем русский, а с другой — Россия достигла своего максимального расцвета и величия, когда он стал столицей русского государства. Противоречие?». ‒ Это не противоречие, а закономерность: именно западнический петербургский период и стал причиной возникновения русского консерватизма как реакции на него и как сопротивления более мощному противнику ‒ апостасийному духу времени, этот дух и возобладал в России в начале ХХ века, совершив революцию в умах ведущего слоя, взрастившего себе миф о передовом Западе и его "свободах".
При этом, мне кажется не лишним в книге отметить, что поначалу даже перенимаемые русской знатью западные поветрия принимали в России отчасти русифицированную форму. И такими были не только романтизм и увлечение немецкими философами. Вы справедливо отметили, что даже русское новиковское масонство конца XVIII ‒ начала XIX века имело консервативную цель: «что именно в прошлом нужно искать эталоны, нормы поведения для современного человека, что петровская современность чрезвычайно исказила нравы». Тогда как западное масонство было устремлено в постхристианское будущее ‒ в революционную демократизацию тогдашнего христианского монархического мiра. Во время Отечественной войны с главным масоном Европы Наполеоном русские масоны не видели в нем "брата". Даже русские "думские" масоны-февралисты, оказавшись в эмиграции, ощутили чужесть западного масонства, поправели и стали покидать ложи.
Тридцать лет назад, работая над книгой "Миссия русской эмиграции", более года я потратил на изучение не только эмигрантского, но и европейского масонства как унии протестантства с иудаизмом, устремленной не в прошлое, а в будущее ‒ к глобальному царству антихриста, о чем в некоторых масонских ритуалах и публикациях прямо говорится как о союзе с сатаной ‒ "первым революционером против божественной деспотии". На этом фоне новиковское благочестиво-просветительское масонство в России в сущности не было таковым, представляя собой нечто вроде утопических оккультно-филантропических кружков и элитарных клубов. Разумеется, с антикрепостническим либерализмом и поветрием вольнодумства ‒ вплоть до бунтарского антимонархического у декабристов.
Однако когда я читаю у многих современных наших "конспирологов" огульные суждения о многих наших государственных деятелях, военачальниках, писателях XIX века, имевших какое-то отношение к ложам, например, о том же Карамзине, как о разрушителях России на одном уровне с их якобы "западными кураторами", ‒ для меня это сразу показатель поверхности всей такой начетнической консервативной "конспирологии".
Так же и сегодня считаю несерьезной тенденцию сводить исток мiрового зла к членству политиков в ложах, поскольку масонство выполнило свою историческую антимонархическую роль и масонская демократическая идеология стала общепринятой в постхристианском "цивилизованном мiре", она господствует в РФ и без членства в ложах в виде советско-западнического синтеза в упомянутой Вами "постноменклатурной элите". Таковы деятели типа Суркова, Чубайса, Грефа. Помнится, О.А. Платонов в своей книге "Россия под властью масонов" составил их огромный список, часть из упомянутых им персонажей подала на него в суд и выиграла его, поскольку у автора списка никаких доказательств их масонства не было...
К сожалению, немало таких примитивных современных "консерваторов" еще и кастрированы совпатриотизмом, возвеличивая сталинский "консерватизм"... Хорошо бы Вам в своем исследовании дать должную оценку и этому явлению.
В отношении Вашей оценки моего места в современном русском консерватизме, отмечу, что я всего лишь маленький искатель смысла жизни, истории и значения России в ней, прикоснувшийся к океану православного мiровоззренческого опыта Зарубежной Руси. Я его не измыслил, а открыл для себя, стараюсь следовать ему в своей деятельности, и это стало для меня определяющим в распознании сущности нашего времени.
"Несколько слов о принципе новизны в просветительской идеологии и в вытекающих из этой идеологии социализма и либерализма, для них новое — это всегда более ценное, чем старое. Новое — это всегда то, что связано с прогрессом. Новое — это то, чему необходимо поклоняться и безоговорочно принимать. Любое прогрессистское сознание в той или иной степени разделяет эту формулу" - Аркадий Юрьевич, это совершенно справедливо. Достаточно ли, однако? Представляется, прогрессисты - что марксисты и иные "революционеры", что либералы - ненавидят существующее общество, демонизируют его, и для его уничтожения - целиком и сразу, или по частям и постепенно, в зависимости от идейных пристрастий - придумывают что-то "новое". Новое им не дорого, потому что оно тут же становится старым. Главное - ненависть к существующему. Ненависть к существующему обществу, его "научная критика" и пропагандистская демонизация, роднит эти учения и движения с гностицизмом. Современными разновидностями которого они являются. Откуда и ненависть к вере и Церкви: в основе ненависть к Творцу, точно как в гностических учениях.