Продолжение. (Начало: часть 1)
Вальтер Ламе, будучи студентом юридического факультета, был призван в германскую армию в 1930 году. Участник боев на Восточном фронте в 1941-1943 годах. Закончил войну в чине капитана командиром батареи артиллерийского полка XV Казачьего Корпуса. После войны, после английского плена, был судьей гражданского суда в Западной Германии. Член русофильского Немецко-Русского Общества Западной Германии, созданного русскими эмигрантами (НТС) и бывшими немецкими военнопленными, вернувшимися из советских лагерей после войны. Общественный и церковный деятель.
Ниже публикуются отрывки из его книги: Вальтер Ламе. Путь к миру (Сан-Франциско: изд-во "Глобус", 1984). В этой второй части речь идет о чудесном откровении ему близ разрушенной сельской церкви в оккупированной немцами Смоленской области, что изменило его жизнь.
5. ЖИЗНЬ СРЕДИ РУССКИХ
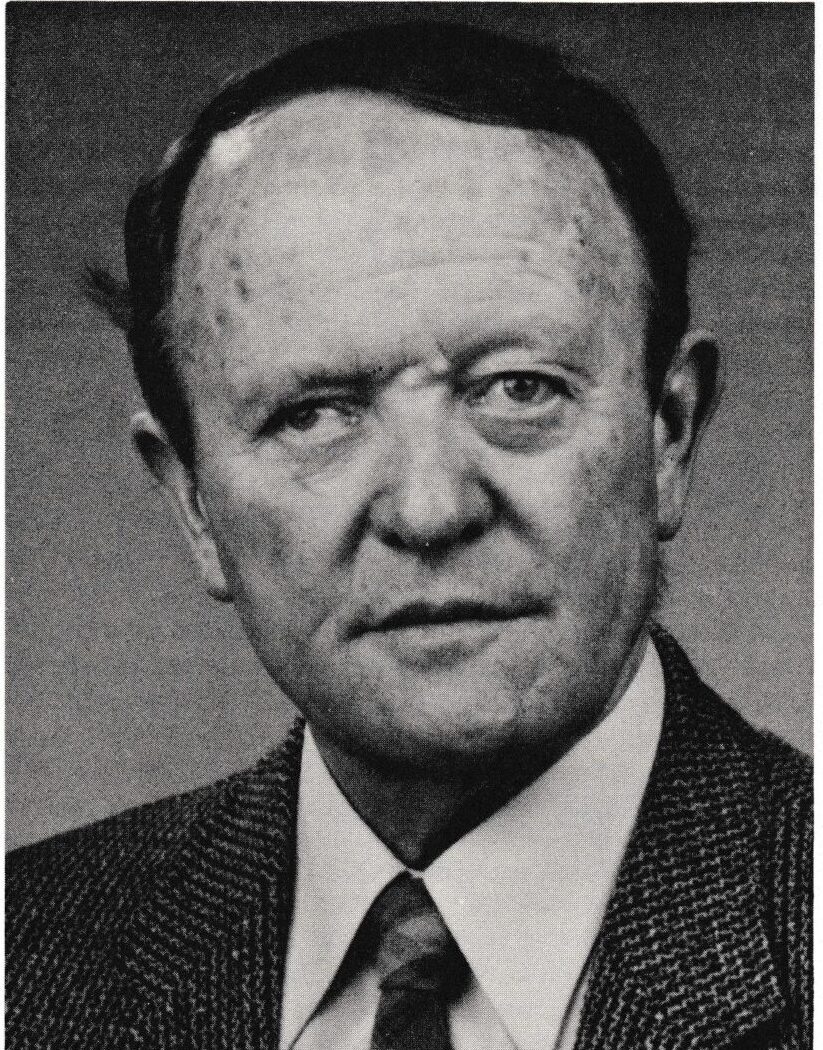 ... С середины ноября штаб нашей части со штабом батарей были размещены в одном из сел Уваровского района, приблизительно в 120 километрах к западу от Москвы. Командир нашего соединения, пожилой майор запаса, был назначен комендантом этого крупного населенного пункт- та и пятнадцати других деревень, входящих в район. Здесь началась настоящая русская зима, и пожилой комендант покидал свою квартиру неохотно. Практически получилось так, что в районе нашего подразделения его комендантские обязанности выполнял я, его адъютант.
... С середины ноября штаб нашей части со штабом батарей были размещены в одном из сел Уваровского района, приблизительно в 120 километрах к западу от Москвы. Командир нашего соединения, пожилой майор запаса, был назначен комендантом этого крупного населенного пункт- та и пятнадцати других деревень, входящих в район. Здесь началась настоящая русская зима, и пожилой комендант покидал свою квартиру неохотно. Практически получилось так, что в районе нашего подразделения его комендантские обязанности выполнял я, его адъютант.
Когда я разъезжал на машине повышенной проходимости, разведывая новый район расположения нашей части, со мной случилось необычное происшествие. Вместе с шофером и сопровождающим солдатом, мы целый день ехали по длинной и трудной дороге. Я должен был сделать несколько рекогносцировок и переговорить о делах в штабе бригады. Вечер наступил рано, трудно стало распознавать дорогу. Я почувствовал себя затерянным в необъятных просторах чужой страны. Я должен был разузнать дорогу в деревне и вошел в дом, выделявшийся среди деревни, состоявшей из ряда изб, своей величиной и особенностью постройки. Моих познаний русского языка едва-едва хватило на то, чтобы кое-как объясниться.
Я уже замечал, что русские становятся общительнее, если стараешься говорить с ними на их языке. Мне не только дружески ответили, но и предложили у них погостить. Когда я потом снова вышел в холод темной ночи, я особенно остро почувствовал защищавший меня уют этого дома. Меня охватило какое-то странное счастливое чувство, я ненадолго почувствовал себя дома на холодной чужбине. Необъятность русского края с его первобытной тайной, особенно ясно дает ощутить человеку его одиночество и потерянность. Тем более счастливо воспринимается защитное тепло дома. Человек с благодарностью чувствует себя огражденным, успокоенным. Это особое переживание, видимо, связано с характером русского ландшафта.
Раньше за все долгие недели войны в России, я еще ни разу не входил в русский дом. Мы жили либо под открытым небом, либо в палатках. На бревенчатых гатях были устроены казарменного типа убежища, в каждом помещении должно было тесниться по двадцать и более человек.
На новом месте моей обязанностью было посещать деревни, относящиеся к району комендатуры. Для необходимых в будущем мероприятий я должен был назначить деревенских старост. Очевидно, уже раньше было условлено, кто станет старостой — я находил их быстро и без труда. Иногда это был бывший председатель советского колхоза. При первом посещении деревни, я обычно собирал всех взрослых жителей.
В нашем селе была молочная ферма с еще действующим оборудованием. Были и опытные люди, согласившиеся обслуживать машины. В нашу задачу не входило обеспечение свежим маслом наших фронтовых товарищей, но эту задачу мы взяли на себя сами. Обязанностью нашей было поставлять отремонтированные автомобили батареям нашей дивизии, участвующим в наступлении на Москву. А в виде сюрприза мы решили добавлять к этим автомобилям еще и свежее масло. Для этого нужно было склонить жителей деревень к добровольной сдаче молока.
Я собрал жителей и объявил им о нашем намерении. Мы сообща определили количество оставшихся коров и число детей и больных, нуждающихся в молоке. Мы предложили жителям особое вознаграждение: гарантию неприкосновенности коров от реквизиции и других злоупотреблений. Кроме того, жители получали от нас квитанции, подтверждающие выполнение поставок, для предъявления своих претензий к немецким властям. Деньги здесь, конечно, были бесполезны. К моему удивлению и радости, я нигде не встретил недовольства или скрытого сопротивления...
Так или иначе, но я сразу получил в ответ согласие. Мы быстро договорились относительно поставок молока. Очевидно, наши добрые намерения сотрудничать стали известны в округе, так как позже, когда я разговаривал с жителями отдаленных деревень, наши переговоры с другими деревнями были им уже известны.
Мы достигли сотрудничества и взаимопонимания посреди вражеской страны. Между нами появилось доверие. Работа на молочной ферме началась уже через несколько ' дней, после начала переговоров. Ежедневно поставлялось 100-120 литров молока, причем его привозили в любую непогоду. Это продолжалось и тогда, когда наступила суровая зима, сделавшая подвоз молока напряженным трудом...
Позже, когда мы ближе познакомились с жителями, мы узнали, что тогда мы были не единственные «визитеры» в этой маленькой лесной деревеньке: были и другие гости, которые тайно наблюдали из окон за нашей торговлей, происходившей на деревенской площади. [Видимо, автор намекает на партизан. ‒ Ред. РИ] Симпатия и доверие к нам росли по мере того, как выяснялась наша добросовестность.
А между тем, в доверенном нам районе мы все еще жили мирной жизнью посреди ада. Наше молочное производство действовало без помех и, против всяких ожиданий, ему ничего не угрожало. Между нами и русским населением выросло доверие. Когда мы втроем или вчетвером навещали деревни, нас всё чаще приглашали к столу. У одного старосты, который был раньше председателем колхоза, мы встретили особенно радушное гостеприимство.
Когда мы бывали у него в гостях, там всегда были и другие жители деревни. К дому собирались крестьяне, мы беседовали с ними. Потом они провожали нас до конца деревни. И мы со всеми прощались дружескими рукопожатиями, как с друзьями. Поистине мы были не во вражеском стане! В ста километрах от ада убийственного советского наступления, мы мирно жили вместе с русскими. Время с ноября 1941 года до Нового года, было для нас подарком судьбы.
Конечно, какую-то роль сыграло и то, что при таких жестоких морозах русской зимы нас не беспокоили никакие вражеские военные операции. Но настоящей основой этой мирной жизни была наша встреча с простым русским человеком. Мы увидели его скромное добродушие, естественную нравственность, с которой он устраивает свою жизнь. Ко всему этому приложилось еще и то, что мы узнали русскую зиму на просторах русского ландшафта. Декабрь 1941 года принес необычные морозы. Суровая, немного унылая красота этой страны глубоко запала в наши души. Мы были очарованы и околдованы.
Но мы не забывали о наших товарищах на фронте. В безоблачные зимние вечера, мы видели на восточном небе над Москвой рвущиеся снаряды зенитных орудий. В далеком отдалении они, правда, казались безвредными цветными искорками. Однако плохие известия после поворота под Москвой говорили другое: наш фронт должен был отодвинуться назад.
Со старостой соседней деревни я мог разговаривать о ходе войны и положении на фронтах с полным доверием. Я стал говорить по-русски лучше, так что мы могли уже понимать друг друга. С полной убежденностью староста говорил, что мы, немцы, несмотря на все достигнутые до сих пор успехи, войны выиграть не сможем. С горечью русские уже поняли, что немецкие обещания освобождения были обманом и ложью. Слишком долго приходиться ждать обещанного освобождения от ненавистной сталинской системы, а истинный характер немецкого «господства» в занятых областях, стал уже широко известен. Чужому господству корыстолюбивых завоевателей все-таки будет предпочтена собственная привычная тирания, несмотря на пережитые и продолжающиеся страдания. Когда вопрос встает о родине, все остальное должно остаться позади.
Старый, умудренный опытом русский человек объяснил мне, что ошибочные шаги ослепленных идеологов в занятых областях и применяемая ими к русским людям несправедливость, вызвали «великую отечественную войну». Тот, кто ломает законы, основанные на праве и справедливости, тот не только самого себя ломает в этом бесправии, но одновременно сеет хаос со всеми его ужасными последствиями: ненавистью, местью, убийством, уничтожением.
Перемирие в нашем селе продолжалось еще во время Рождества и Нового года. В день Рождества один русский доброволец с нашей батареи сделал мне особенно дорогой моему сердцу подарок: он мастерски нарисовал зимнюю улицу нашего села с православной церковью на заднем плане. Этот маленький рисунок до сих пор висит на стене моей любимой комнаты и доставляет мне радость.
В начале 42 года сведенные вместе остатки нашей дивизии были переведены в район западнее Вязьмы для оборонных задач. Мы, то есть я со своими тремя друзьями, ездившими со мной по деревням нашей комендатуры, были опечалены. Мы распрощались с людьми в этих, ставших нам родными, деревнях, в особенности тепло простились со старым старостой. Это было прощанье с друзьями. Я и сегодня, в некоторые минуты жизни, вижу перед собой старого старосту соседней деревни. Между нами было особое взаимопонимание. В его глазах я видел доверие и благодарность, но и высокую суровость. Эта серьезная суровость была как приговор судьи о нашем пути в Россию, о наших ошибках, о нашей вине перед русским народом, который ждал через нас освобождения. Вся тяжесть войны, всё нами упущенное и растраченное, легли мне на плечи в минуту прощанья со стариком. Уходя, я обернулся и махнул ему рукой... Неподвижно стоял старик староста на деревенской улице перед своим домов и смотрел мне вслед, пока мои сани не скрылись от его глаз...
«Неправильное обращение», которое русский народ испытал со стороны немцев, со стороны «коричневых партизан» в тылу, со стороны свирепствовавших отделов «СД», убило надежду русских на свободу и толкнуло разочарованных, ожесточившихся людей снова к Сталину, к фанатической «отечественной войне». «Неправильное обращение» с русским народом, благодаря извращению права на немецкой стороне, повлияло не только на отрицательное развитие войны. Оно отняло у нас, воюющих солдат, смысл борьбы, единственное оправдание этого бесчеловечного столкновения. Наша надежда на скорое завершение войны и на выполнение нами исторической задачи — умерла...
В исторических источниках можно найти достаточно мест подтверждающих это мнение. Так, например, уже упомянутый американский ученый, профессор Даллин, обобщая, утверждает в своем труде «Немецкое господство на Востоке»: «Немцы внесли значительный вклад к тому, что сталинская советская система, которой угрожала опасность внутреннего распада, вновь стабилизировалась, так как в результате поведения немцев, цели советского правительства и чаяния народа временно совпали. Германия стала общественным врагом № 1». (стр. 152).
Сам Сталин, при передаче Верховного командования Северным фронтом, б марта 1942 года, генералу Власову, подтверждает это: «Политическая неблагонадежность населения и части армии в первые месяцы создала критическое положение, — к счастью, фашисты быстро исцелили этих людей». (Цитата из: Свен-Стенберг, «Власов», 1978, стр. 26).
6. ГОРЬКИЕ УРОКИ РУССКОЙ ЗИМЫ 1941-1942 ГОДОВ
В районе нашего расположения около поселка Дорогобуж-вокзал, приблизительно в 100 километрах западнее Вязьмы, от нас снова потребовалось выполнение военных задач. Мы должны были охранять железнодорожную линию между Смоленском и Вязьмой, идущую параллельно шоссе, соединяющему эти города. Этот путь, по которому шло наше снабжение, был под постоянной угрозой нападения советских десантников, сбрасываемых на парашютах, и все время растущих партизанских отрядов, которые пополнялись отбившимися от своих соединений солдатами из вязьминского окружения. Мы патрулировали по нашему району на лыжах...
Также и здесь, в деревнях определенного нам для охраны участка, у меня установились со старостами хорошие отношения. Старосты заботились о том, чтобы все оставшиеся в деревнях красноармейцы были зарегистрированы как военнопленные или как добровольцы. В первые недели в районе нашего расположения не раздалось ни одного выстрела. У нас еще было много времени для раздумий. И мы думали. Множество вопросов о жизни и смерти занимало нас.
У развилки главного соединительного шоссе, ведущего к железнодорожному пути, мы нашли на краю дороги мертвых советских солдат, вмерзших в снег и лед и заметенных снегом. У одного из них свободным осталось только лицо, и лицо было неповрежденным. Это лицо выражало высокий покой и было торжественно. Проходя мимо, я всякий раз не мог не остановиться перед этим зрелищем, свидетельствующем о покое смерти и о том, что этот покой есть цель жизни.
Наши разговоры в кругу друзей постоянно вертелись вокруг военной ситуации. Много говорилось о самосознании немецкого солдата. Нас удручала неудача под Москвой. Проблема была в большем, чем только тревога за собственную судьбу. Немецкая вина, вызванная действиями в тылу «коричневых партизан» [немецкой политической оккупационной администрации. ‒ Ред. РИ], надменность расовой теории, нечестность, тяжелые нарушения законности, вплоть до массовых убийств — всё это угнетало нас. Расплачиваться по этому ужасному счету предстояло и нам. Немецкая неправота в этой войне лишила нас ее смысла, украла у нас нашу солдатскую честь.
Эта неправота воспринималась нами тем тяжелее, что при встрече с русскими людьми, мы узнали многое о той несправедливости, которую они терпят со стороны собственного идеологически ослепленного руководства, узнали о страстном желании русских людей освободиться от всякого угнетения и о надеждах, возлагаемых ими на немцев.
Эти надежды имели право на жизнь, они должны были сбыться, но нашей же политикой ведения войны они были разрушены. Война принесла им новое угнетение.
Мне вовсе нелегко говорить о нашей неправоте, в которую нас повергла немецкая измена закону. Эта неправота была причиной нашей подавленности. Когда я, бывало, в одиночестве стоял под открытым русским небом, то очень часто это душевное угнетение причиняло мне просто физическую боль, становилось трудно дышать стесненной грудью.
Это был феномен, заслуживающий внимания. Такое состояние показало: если долг службы и мужество, которые требуются от воюющего солдата, становятся внутренней душевной нагрузкой из-за нарушения права руководством, то только честность и добросовестность должны стать основой служебного долга и мужества. Другими словами, требуемые от боевого солдата долг службы и мужество, он может проявлять только постоянно перебарывая себя, и лишь в том случае, если честность и добросовестность ведения войны этому способствуют.
Сталкиваясь с нарушением права в политике ведения войны, мы поняли, что находимся в противоречии с нашим понятием служебного долга и мужества.
Мы сами являлись как бы доказательством тому, что мужество и право взаимосвязаны и что мужество и право обусловливают друг друга. Таким образом подтвердилось высказывание Фоны Аквинского, что «Хвала мужеству зависит от справедливости».
Первая зима в России привела нас к горькому самопознанию. Именно в России ставка на право и справедливость имела бы громадное значение. Поэтому наше тогдашнее решение не выполнять приказ о комиссарах, как приказ нарушающий право, было не достаточным.
Всегда было необходимо не только разоблачать бесправие, но и бороться против него. В противном случае, оно не прекращается... После приказа о комиссарах наша внутренняя позиция изменилась. Наша позиция изменилась несмотря на то, что мы старались служить так же честно и добросовестно. Правота другого высказывания Фомы Аквинского угнетала нас: «Мужество без справедливости превращается в рычаг зла».
Наша совесть с этого времени мучила нас все больше и больше. Она заявляет о себе еще и сегодня, когда нас одолевают воспоминания. Нас все еще мучает вопрос: можно ли было избежать неправды, если бы мы, немецкие офицеры, в то время, сославшись на обязательство присяги, открыто отказались выполнить приказ о комиссарах? Не мог и не должен ли был я в качестве юриста найти тогда дорогу к командиру дивизии, как и любой другой офицер? Ведь два месяца перед этим, я в течение четырех недель замещал советника военного суда и почти каждый второй день ходил с докладом к командиру дивизии.
Ответ, исходящий из горького самопознания: роль сыграли не только несчастливое стечение обстоятельств, но так же и личная вина.
Когда-то я молодым жизнерадостным лейтенантом начинал свой путь. Сейчас мое сердце не вмещало всех обуревавших его тревог.
7. НАСТУПЛЕНИЕ БЕЗ ОРУДИЙ ПО ЗИМНЕЙ РОССИИ
Наш полк стал теперь артиллерийским полком без орудий, и из отведенных в январе в тыл частей, были в районе Дорогобужа сформированы охранные роты. Одну из таких рот, с личным составом в 200 человек, мне передали под мою команду в начале февраля 1942 года. Задачей этой роты была охрана вновь построенного деревянного моста через Днепр на шоссе Смоленск—Вязьма...
Чтобы увеличить боеспособность роты, я составил лыжный взвод. Теперь, в результате принятых мер, уже пришли из Германии лыжи и другое военное снаряжение. В составе вновь образованного боевого батальона, наша рота была использована в начале марта для выполнения боевой задачи — продвижения вперед охранной линии на юг по направлению к Дорогобужу...
ОТКРОВЕНИЕ В СЕЛЕЦКОМ
На следующее утро меня разбудили первые лучи мартовского солнца, проникавшие через маленькое окно деревянного дома на соломенное ложе на полу моей квартиры. Было воскресенье. Вдруг я вспомнил: я должен сегодня собрать роту, чтобы отдать последнюю честь павшим в бою товарищам.
Я обдумывал свою речь. При этом вспоминал свои размышления и раздумия в тихий летний вечер на Украине на могиле моего предшественника, будучи тогда адъютантом подразделения. Я решил положить в основу заключительной молитвы, то что мне казалось правильно осознанным и увиденным тогда на этой могиле...
А потом я стоял в большом светлом зале школы в Селецком перед выстроившейся ротой. Я говорил о наших двух операциях под Тушневым и Раковым, описал опасность этих дней, которые непривычным к пехотному бою артиллеристам могли принести еще больше бед. Я напомнил о чудесной судьбе, приведшей к успеху операции — о роли молодого врача, и вся моя речь о бое, со всеми его удачами и неудачами, звучала как благодарность Богу.
Я скомандовал «смирно», взял под козырек, отдавая честь павшим товарищам, и стал медленно называть имена убитых, которые один за другим вставали перед моими глазами.
И вдруг я вздрогнул: какая-то потусторонняя сила завладела мной, сковала тело и речь. Я почувствовал такой ужас, какого еще не испытывал. Имена убитых едва сходили с моих губ, тяжело застревая в горле. Чужым, но ясным голосом, я прочел заключительную молитву: «Мы молимся о них, чтобы их души, оставившие здесь их тела, нашли высший мир и покой».
Могучая потусторонняя сила овладела мной полностью, мое «я» растворилось в ней собственной воле не осталось места. Я не мог по собственной воле шевельнуть ни одним членом. Некий преображающий свет заполнил пространство вокруг меня, преобразил серый цвет мундиров моих товарищей. Остановилось само время. Затем понемногу потусторонняя охватившая меня сила начала истекать из меня, и постепенно воля вернулась ко мне, я вновь обрел власть над своим телом. Тогда только я смог опустить вниз руку, которая, оцепенев, как бы приросла к козырьку моей фуражки.
При уходе потусторонней этой силы, в глубине моей груди появилось странное чувство, которое я не могу описать словами. Подобное же чувство я пережил уже однажды: в июле 1939 года после бурного молодежного праздника по случаю сданного экзамена на докторат я, желая придти в себя, переусердствовал, тяжело отравился лекарствами и был на грани смерти. В кармане у меня тогда уже лежал приказ о призыве в армию. В бедственном состоянии души и тела я молился тогда, чтобы Господь оставил мне мою несвершенную еще жизнь и подарил мне время, испытал меня. Тот тогда я пережил такое же чувство. Видимо, сейчас я снова стоял на каком-то рубеже. Когда я вспомнил, что пережил уже такое на грани жизни и смерти, я не был больше способен ни на какие слова и выбежал на воздух.
Мне стало стыдно. Не рассчитывал ли я и не высчитывал ли после тяжелого ночного боя своих заслуг? Я удалился в свою комнату. Нужно было успокоиться. Меня охватил ужас. Когда появился рядом один из моих взводных командиров, я должен был снова убежать, я не мог говорить ни с кем.
На дворе я взял свою лыжную палку, мне надо было на что-то опираться. Медленно и бесцельно я брел вверх по деревенской улице мимо редких изб на западной стороне. Восточная, незастроенная сторона улицы уходила в низину и открывала вид на другую часть села. Там высилась тяжелая полуразрушенная церковная колокольня. Церковь разрушили уже несколько лет тому назад, чтобы этим отметить торжество наступающего атеизма. Пустынная заснеженная деревенская улица была вся залита солнечным светом, высоко уходило темносинее небо. Сверкающий снег придавал убогой деревне праздничный вид.

Я брел дальше, навстречу солнцу, меня окутало его слабое тепло. Понемногу моя душа стала успокаиваться. Мысли все время возвращались к моему странному состоянию в школе. Душа была под тяжким грузом, но я легко шел в гору.
Вдруг со стороны солнца на меня нахлынула волна света, он был светлее, чем сам солнечный свет. Это был яркий, но невыразимо мягкий, неописуемо прекрасный свет. Он охватил меня и поднял. Свет был полон мощи, силы и великолепия. Его сила повернула мою голову в сторону разрушенной церкви. Одновременно я почувствовал, что моя грудь непостижимым образом освобождается от всего, что ее давило и угнетало. Внезапное чувство освобождения от подавленности, от чувства вины и стыда явилось чудесным избавлением. Меня целиком захватило светлое восторженное чувство и мир. И из этого света я услышал слова: «Когда вы снова будете строить церкви...»
Голос был чудной ясности и звонкости. Затем слова замерли в направлении разрушенной церкви, и одновременно исчез великолепный свет. Я снова пришел в себя, стоя на улице и опираясь на палку, с головой, обращенной к церкви, и ногами, прикованными к снегу. Никогда не изведанный свет просветил мое познание, значит... Бог все же является личным Богом...
Перед лицом увиденного и услышанного, мое собственное человеческое мышление, сформированное человеческой наукой, рассыпалось. Я снова стал доверчивым ребенком, обретя доверие, с каким когда-то шел к матери, стал верующим ребенком с его робкими шагами в царство веры. Меня пронизало священное прозрение: Бог дал мне знамение, дал мне познать Его святую волю. Мне был указан путь и условие полного освобождения от всех нужд, угнетенности, опасности и вины. Моя душа ужаснулась раскрывшейся бездны, в которой живут люди, разрушающие место поклонения и молитвы. Для меня стало очевидно, что в этой бездне находимся мы все — и русские, и немцы; и те, кто разрушил каменное строение — дом молитвы и благовести, и те, кто из своей среды изгнал Бога и поставил на Его место свое автономное «я». Все во мне содрогнулось от просветления и осознания, преобразивших меня всего.
Это переживание чудесным образом одновременно и приподняло и придавило меня. У меня было ощущение, будто теперь я не могу больше жить. Медленно и с трудом двигая ногами, я вернулся обратно — не мог же я остаться стоять посреди улицы.
Я пошел в канцелярию батальона, бывшую неподалеку. Пораженный, я остановился в дверях помещения: несколько офицеров рассуждали о приказе относительно комиссаров. Мне показалось, что это опять вещее указание на причину всей нашей подавленности — беззаконность, сделавшую нас виновными и приведшую к невыполнению нами нашей исторической задачи. Мир показался мне удивительно прозрачным, все казалось явственно связанным с великим центром, в который мне было дано заглянуть.
Меня пригласили к общему столу, и я должен был пересилить себя, чтобы не отказаться. Перед моими глазами все еще стояли тишина и белая деревенская улица. Как только это стало возможным, я постарался уединиться и сел за свои дела.
В ротной канцелярии я поймал вопрошающий взгляд моего старшего ротного фельдфебеля. Смущаясь, он сказал: «Слова, которые Вы сегодня сказали в честь убитых, были Вам ниспосланы свыше...». Он тоже верил в живого, личного Бога. С непривычной доверительностью и искренностью он рассказал мне о разных событиях и случаях в его жизни, которые стали определяющими для его веры. При этом он рассказал и о своем отце. Я слушал, размышляя, и тут меня задело слово «отец». Болезненно ясно вспомнился отец, оставшийся на родине, и его смертельная болезнь. Однако, в свете пережитого, мои тревоги об отце были уже менее безутешны, чем раньше. Казалось мне, что виденный мною свет и отцу даст облегчение от страданий и боли и дарует ему спокойное возвращение домой — к Отцу всех людей. Я на своем опыте познал истину слов: «И Он осушит все слезы с наших глаз...»...
В течение последующих ночей я спал мало. Я просыпался уже за несколько часов до рассвета, и снова и снова перед моими глазами вставало пережитое в последние дни, так глубоко меня потрясшее и изменившее. Эти часы были полны удивления происшедшим и глубоким смыслом откровения пророческих слов.
С тех пор я понял и, должен признаться, что именно в ужасной войне против России мне был дан дар познания, вырвавший меня из отчаяния и придавший ясность моим сомнениям и исканиям. Это глубоко преобразило меня и не освобождает меня и сегодня от возложенной на меня обязанности, которая одновременно поддерживает и угнетает меня, возвышая над моими собственными недостатками, позволяя, не смотря на все, верить и надеяться. Я считаю, что я должен свидетельствовать об этом, данном мне свыше, переживании и поделиться им с тем братом, который вопрошает о смысле и цели жизни.
Я услышал, — я увидел и понял, что восклицание: «Когда вы опять будете строить церкви!», содержит в себе путь и цель. Я понял и познал, что в осуществлении этой цели заложены и радость и спасение.
«Строить церкви» — это значит постоянно осуществлять здесь, на земле, при всем нашем человеческом несовершенстве, Тело Христово, во исполнение заповеди о любви к Богу и ближнему. Исполнение двойной заповеди о любви к Богу и ближнему означает созревание человеческой духовности, созревание человека в Дух, что является путем и целью нашей жизни. Лишь в этом Духе и в его силе может быть осуществлен мир — мир между ближним и мною, мир между народами.
Откровение в Селецком зовет нас, русских и немцев, на борьбу с лжеучением атеизма. Это означает и борьбу с собственным неверием, борьбу с часто имеющим место унынием, борьбу с неверием брата — посредством укрепления собственной уверенности и доверия к Богу. Это означает, наконец, и сопротивление всякому открытому безбожию, как и усиливающемуся секуляризованному мышлению...


"Это особое переживание, видимо, связано с характером русского ландшафта" - сам того не понимая, Ламе озвучил одну из опорных характеристик этноса, в данном случае русского - тесную связь с вмещающим ландшафтом (по Л.Н. Гумилеву).
Именно эта связь является одной из основных жизненных опор этноса, и именно ее вырывали у русских коммунисты, разоряя деревни, переселяя население в города путем создания более худших условий проживания на земле.
Отрывая этнос от родного ландшафта, его отрывают от исторических корней, от духа и традиций народа.
И все это продолжается и поныне.