"Единение" (1995, № 2 и № 3)
Книга о той эмиграции, которая примирилась с коммунистической властью
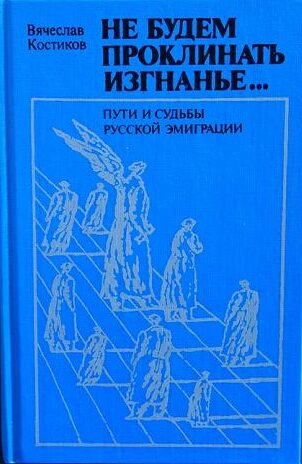 Эта книга*, вышедшая первым изданием в 1990 году, а недавно вторым, дополненным – рекомендована издательством "Международные отношения" как "первая попытка непредвзятого рассказа о русской эмиграции" (с которой автор В. Костиков имел дело на советской заграничной работе). Однако для правильного восприятия книги важно было правильно ее назвать – чего автор, к сожалению, не сделал. Не сделал он этого и при переиздании, вопреки нашему совету в "Посеве" (1991, №3).
Эта книга*, вышедшая первым изданием в 1990 году, а недавно вторым, дополненным – рекомендована издательством "Международные отношения" как "первая попытка непредвзятого рассказа о русской эмиграции" (с которой автор В. Костиков имел дело на советской заграничной работе). Однако для правильного восприятия книги важно было правильно ее назвать – чего автор, к сожалению, не сделал. Не сделал он этого и при переиздании, вопреки нашему совету в "Посеве" (1991, №3).
____________
*В. Костиков. "Не будем проклинать изгнанье... Пути и судьбы русской эмиграции". Москва: "Международные отношения". 1990. – 464 с; второе дополненное издание: 1994. – 528 с. В данной рецензии в ссылках на страницы книги их нумерация указана как по 1-му, так и (через косую черту) по 2-му изданию. В. Костиков является в настоящее время пресс-секретарем през. Б. Ельцина. [Впоследствии книга вновь переиздавалась, напр. в 2004 г. издательством "Вагриус". – Прим. 2012]
____________
Поэтому вновь позволим себе предложить название, вынесенное в заглавие данной рецензии. Оно более точно, ибо в политическом спектре русского зарубежья (охвачен период до конца 1940-х годов) Костикова интересует лишь та его часть, которая примирительно относилась к коммунистической власти. Такая эмиграция действительно имелась, и оправдания этому у нее были разные.
Так, в основе " возвращенчества" 1920-х (годы нэпа) и 1940-х годов (после реабилитации русского патриотизма в годы войны) лежала не столько капитуляция, сколько вера в эволюцию большевиков – на фоне циничного равнодушия Запада к русской трагедии. Впрочем, возвращались в основном неполитизированные обыватели, бежавшие от хаоса и полагавшие, что у советской власти к ним претензий не будет.
Призыв Е.Д. Кусковой "зарыть ров" между эмиграцией и Советской Россией объяснялся скорее сознательной стратегией леволиберального фланга (Керенского, Милюкова): не раздражать большевиков – тогда они успокоятся и действительно эволюционируют. Так левые круги эмиграции надеялись постепенно войти в структуры власти будущей России – и не допустить туда "реакционную" эмиграцию.
"Сменовеховство" (по заглавию сборника "Смена вех", 1921) было интереснее тем, что руководствовалось не только иллюзиями, но и целой философией (смесью народничества и фатализма). Это была попытка оправдания большевицкой власти как неизбежной и выполняющей некую мистическую национальную миссию. Конечно, для христианина не бывает безсмысленных катастроф, и если усматривать в большевизме скрытый "положительный" смысл – то лишь в том, что этим было дано доказательство христианских ценностей от обратного. Кроме того, ценою огромных жертв это сохранило Россию "белым пятном" в мiре нарастающей либеральной духовной энтропии, давая нам теперь шанс еще раз задуматься о собственном пути в истории. Но на политическом уровне это вело к неразличению границы между добром и злом – и к капитуляции.
Сходная философия отразилась и в деятельности "младороссов", части евразийцев, "национал-максималистов", "утвержденцев" и других "пореволюционных" течений. Считая невозможной реставрацию дореволюционного строя, они исходили из российской реальности – какой бы ужасной они ни была, видя свой долг в борьбе за ее преображение изнутри (эти их иллюзии подпитывала и советская агентура). Их идеалы противостояли как бездуховности буржуазного мiра, так и идеологии большевиков. Поэтому "пореволюционность" следует все же отличать от "сменовехоства": она была наивно-оппозиционным стремлением к преображению России, а не оправданием "очистительной бури" чекистского террора.
Сходную позицию заняла часть зарубежного духовенства, давшая в 1927 г. подписки о лояльности коммунистической власти (впрочем, это было сделано и в результате шантажа: из опасения за судьбу духовенства в СССР).
В целом же понять проблему совпатриотизма в русской эмиграции можно только с учетом западных факторов: от предательства Антантой Белого движения до глобального кризиса тогдашних демократий. Однако автор, не пытаясь входить в столь сложные психологические, стратегические и философские аспекты, объединяет всех этих эмигрантов под знаменем совпатриотизма – вместе с Горьким (которому посвящена целая глава, но не указано главной причины его возвращения в СССР, заключавшейся в том, что на Западе упал интерес к нему и иссякли источники денег). Костиков включает сюда даже таких "патриотов", как генерал Скоблин и Н.В. Плевицкая (о них тоже большая глава). Эта супружеская пара оказывала услуги ГПУ с 1930 по 1937 годы; помимо десятков выданных в России соратников, на их совести – похищение главы РОВСа, генерала Е.К. Миллера. ГПУ платило за это 200 долларов в месяц – "сумма по тем временам немалая", признает Костиков, но своих симпатий к подобному "патриотизму" не скрывает: единственный упрек в этой связи он адресует ГПУ – за то, что после ареста "Надежда Васильевна оказалась брошенной на произвол судьбы" (с. 403/456).
То есть Костиков поднимает на щит ту часть эмиграции, которая изображена В. Аксеновым в романе "Остров Крым" и которая понимала "идею общей судьбы" со своим народом как пассивное присоединение к его несвободе. Эта "общность судьбы" нередко и в реальности доходила до самоубийственного конца: в СССР вернулись и погибли сменовеховцы Н. Устрялов, Ю. Ключников, С. Лукьянова; евразийцы Д. Святополк-Мирский, П. Арапов, С. Эфрон...
Конечно, если отождествлять с такими кругами все Русское Зарубежье (это делает и В. Аксенов, хоть и с противоположной оценкой), можно прийти к выводу, что «насаждаемые длительное время в нашей популярной литературе представления о врожденной контрреволюционности эмиграции не имеют достаточных оснований» (с. 415/468). Но это заключение В. Костикова не выдерживает сопоставления с фактами.
"Идея общей судьбы" имела и иное воплощение: стремление активно послужить освобождению России. Легко доказать (например по выборам делегатов на Зарубежный съезд 1926 года – своего рода зарубежный Земский Собор), что основная часть политической эмиграции была именно "контрреволюционной". Можно не соглашаться с теми или иными ее действиями, но она была патриотической. Вот только ее понимание патриотизма было иным – учитывая, что в 1920–1930-е годы власть интернационалистов-большевиков носила явно антирусский характер:
«Отношение к советской власти как к плохому, но русскому правительству означает непонимание ее существа». «Интересы России противоположны интересам Интернационала», поработившего ее. «Советская власть (псевдоним диктатуры коммунистов) упразднила самое имя "Россия", заменив его не связанным с каким-либо территориальным признаком названием Союза Советских Социалистических республик...».
«Власть антинациональной секты по существу губительнее и отвратнее господства другой нации. Под татарским игом русская самобытность менее искажалась, нежели под игом коммунистическим. Оно внешне менее заметно, так как коммунист говорит на том же языке... и потому сопротивление коммунистическому разложению требует большей сознательности, нежели противодействие простому иноземному засилью» ("Возрождение". Париж. 1926. 6 апр., с. 4).
«Сколько бы других народов ни признало коммунистическую партию, властвующую над Россией, ее законным правительством, русский народ ее таковым не признает и не прекратит своей борьбы против нее". Мы обращаемся "с горячим призывом к другим народам – помочь России в постигшей ее беде и оказать поддержку ее борьбе с кровавым игом III Интернационала. ...не будет мира в мiре, пока не займет в нем своего по праву ей принадлежащего места воскресшая и возрожденная Россия» ("Возрождение", 1926, 12 апр., с. 1).
Эти тезисы были приняты Зарубежным съездом единогласно. В нем участвовало около 450 делегатов от 200 русских организаций из 26 стран (отказались лишь группы Милюкова и Керенского). Было это в 1926 г., в разгар нэпа, что опровергает мнение Костикова о "неконтрреволюционности" эмиграции «даже среди белого офицерства... – по крайней мере на начальном этапе, когда демократические идеалы революции еще не были извращены сталинизмом» (с. 361/411; 115/151-152). Таких офицеров могли быть единицы. В эмиграцию попало именно то офицерство, которое с оружием выступило против этих "идеалов" еще до нэпа и до "сталинизма".
Оно продолжило свою борьбу из эмиграции, преобразовав Белые армии в Русский Обще-Воинской Союз (РОВС) – 30-тысячную организацию в труднейших условиях сохранявшую боеготовность. Это уникальное явление в истории всей эмиграции. Но из книги Костикова о нем можно лишь узнать, что белогвардейцы «напивались под треньканье балалайки до полубезпамятства», время от времени простреливая себе головы (с. 237/280-281).
Были и невоенные организации пытавшиеся проникать в СССР, о которых Костиков не пишет ни слова: "Народный Союз Защиты Родины и Свободы" (идеологи: Б.В. Савинков, Д.С. Мережковский, 3. Гиппиус, Д.В. Философов); "Борьба за Россию" (М.М. Федоров, С.П. Мелыунов, А.В. Карташев), "Трудовая крестьянская Партия" (А.А. Аргунов, А.Л. Бем и С.С. Маслов); более активны были "Братство русской правды" (герцог Г.М. Лейхтенбергский, С.А. Соколов-Кречетов, ген. П. Краснов, А. Амфитеатров) и молодежный "Национально-Трудовой Союз Нового Поколения" (М.А. Георгиевский, В.М. Байдалаков)...
Разумеется, не все действия этих организаций можно одобрить (например террористические акты БРП и РОВСа). Но их можно понять: на фоне миллионных жертв террора, коллективизации, искусственного голода в России – военные по инерции стремились к продолжению гражданской войны против палачей своего народа. И чекисты с эмигрантами тоже не церемонились: убийства и похищения были обычным делом. При вылазках в Россию, уже на советской границе погибал каждый второй... Конечно, силы были несоизмеримы, но эти люди, жертвовавшие своей жизнью, давали эмиграции надежду на продолжение борьбы на родине.
Еще одно наглядное опровержение концепции Костикова – Обращение к русской эмиграции "Гражданам свободной Америки" (Париж, 7 ноября 1930 г.) с призывом прекратить экономическую поддержку большевиков и «не препятствовать русскому народу бороться за свою свободу против своих тиранов» ("Посев", Франкфурт-на-Майне. 1983 г. № 11, с. 62). Обращение подписали 215 человек, в том числе ведущие писатели эмиграции: М. Алданов, И. Бунаков-Фонда-минский, И. Бунин, З. Типиус, Б. Зайцев, В. Зеньковский, А. Карташев, А. Куприн, И. Ильин, В. Ильин, Н. Лосский, И. Лукаш, С. Мельгунов, Д. Мережковский, В. Набоков, П. Струве, С. Франк, а также видные ученые, духовенство, вожди Белого движения, бывшие политические деятели России. Важно отметить, что правый фланг среди подписавших представлен слабо: преобладают центристы, либералы, присоединились лидеры социалистов и даже глава младороссов А. Казем-Бек. Всех их объединило отрицание террора большевиков.
При этом не забудем, что у либерального фланга претензии к советской власти были скромнее, чем у основной части эмиграции. Это были остатки того самого "ордена русской интеллигенции", против которого выступили "Вехи". Этот сборник не был "манифестом русской интеллигенции" (с. 31), как полагает Костиков; слово "интеллигенция" использовалось в сборнике в критическом значении, и авторы себя к ней не причисляли. Совершив с помощью западных друзей Февральскую революцию и ничему не научившись в провале своих утопий, этот "орден" и в эмиграции пользовался поддержкой влиятельных западных сил и распоряжался дореволюционными русскими деньгами, оставшимися за границей.
Именно поэтому, как отметил даже известный Костикову демократ-центрист В. Варшавский, «не многочисленные, но активные группы кадетов, эсэров и меньшевиков... издавали главные эмигрантские газеты и журналы, и их публицистика и дискуссии занимали авансцену эмигрантской общественной жизни. Но по-настоящему эти остатки демократической и социалистической интеллигенции не имели влияния и были окружены враждой огромного большинства эмигрантов» (Варшавский В. Незамеченное поколение. Нью-Йорк. 1959. с. 21).
Эти-то леволиберальные круги В. Костиков и выдает в своей книге за элиту русской эмиграции, полагая, что лишь "черносотенцы" обвиняли ее «во всех смертных грехах: вначале – в свержении монархии, потом – в Октябрьской революции, уже в эмиграции – в стремлении разложить русскую церковь, в антипатриотизме, утверждая, что интеллигенция идет в церковь не с желанием спасать и спастись, а с намерением "исправить церковь"...» (с. 252/295). Однако позже немало бывших членов "ордена" каялось в подобных грехах (в чем-то даже Керенский).
Наиболее серьезные расхождения в Русском Зарубежье проявились во Второй мiровой войне – и в этом отношении рецензируемая книга содержит огромный пробел.
Костиков, вслед за В. Варшавским, приветствует участие эмигрантов во французских войсках, разбросавшее русские могилы по всем театрам военных действий (но далеко не вce пошли в армию добровольцами: русская молодежь во Франции подлежала обязательному призыву). Несколько сот русских героически участвовали в "Резистансе": вдалеке от России они не особенно задумывались над другими возможностями; гитлеровские оккупанты были ближайшим конкретным злом, которому необходимо было противостоять.
Однако гораздо большая часть русской эмиграции не стремилась умирать за страны Антанты, которые предали союзницу Россию, были готовы "торговать и с людоедами" (Ллойд Джордж) и поддерживали власть в СССР. (Эта горечь предательства Западом окрашивает мышление огромной части зарубежья – см., например, речь Бунина "Миссия русской эмиграции", 1924 г.).
Как писал в 1939 г. "Часовой" (официоз РОВСа): «...политическая эмиграция не имеет никакого права вмешиваться в настоящий европейский конфликт до тех пор, пока одна из сторон не объявит о том, что в числе целей войны есть и борьба с узурпировавшими русскую власть большевиками» ("Часовой". Брюссель. 1939. № 246. 5 дек., с. 2).
Главное разделение в эмиграции пролегло после нападения Германии на СССР. Кого следовало считать меньшим злом для России: коммунистического тирана Сталина, призвавшего к защите им же опустошенной русской земли, или национал-социалиста Гитлера, объявившего освободительный поход против коммунизма?
Ответ на этот сложный нравственный вопрос зависел от оценок целого ряда факторов: целей Германии, размаха сталинского террора, наличия антикоммунистического потенциала в народе, надежд на эволюцию большевиков. Играло важную роль местопребывание и возможности тех или иных конкретных действий. Именно поэтому столь причудливо пролегали границы между разными вариантами ответа, не всегда совпадая с принадлежностью к тому или иному флангу эмиграции, меняясь в ходе войны...
Поскольку леволиберальный фланг и раньше относился к большевикам мягче, а теперь западные демократии стали официальными союзниками Сталина – для либералов было естественным "оборончество". П. Милюков незадолго до смерти выразил это в статье "Правда о большевизме" (1942 г.), присоединившись к лозунгу «Вы не за Сталина? – Значит вы за Гитлера» ("Русский патриж". Париж. 1944. №3 (16). 11 ноября, с. 2). Гитлер для них был страшнее и потому, что нес с собой личную физическую угрозу (прежде всего евреям).
Оборончество у некоторых деятелей правых взглядов (таких, как евразиец П.Н. Савицкий, философ Бердяев, генерал Деникин, подобные нотки можно найти и у Бунина) – имело другие причины. Оно особенно распространилось, когда Гитлер показал свое антирусское лицо, а Сталин сделал ставку на русский патриотизм. Это вызвало всплеск надежд на то, что сталинский режим меняется в сторону здравого смысла. Но когда после войны ошибка стала очевидна, многие из таких "оборонцев", те же Деникин и Бунин, вновь заняли непримиримые антикоммунистические позиции.
Подлинных "пораженцев" (сравнимых с предательской позицией интернационалиста Ленина в Первой мiровой войне) в русской эмиграции периода советско-германской войны не было. Возникший вариант, "пораженчества" диктовался патриотизмом: использовать ситуацию для освобождения России от антинационального преступного режима. Гитлеризм к началу войны еще не проявил своего звериного лика, немцы проводили успешные социальные реформы, раздавали антикоммунистические обещания – это питало надежду на тот самый "крестовый поход" Европы против коммунизма, к которому призывал Бунин в 1924 году. Эти надежды встречались в разных кругах: так, вторжение Германии в СССР приветствовали о. Иоанн Шаховской (тогда священник либеральной "парижской" юрисдикции, будущий архиепископ Сан-Францисский) и митрополит Серафим Лукьянов (иерарх консервативной Зарубежной Церкви в Париже, перешедший после войны в Московскую патриархию).
Учтем и то, что правая эмиграция была сконцентрирована в Германии и Югославии (также и в Болгарии. – Прим. ред.). Там была другая раскладка сил, другие возможности. Многие эмигранты видели в немцах меньшее зло не столько потому, что поверили в объявленный "крестовый поход", сколько потому, что надеялись сами использовать начавшуюся войну для организации такого похода – при его поддержке населением России.
Позицию РОВСа в случае нападения Германии на СССР еще в 1939 г. выразил "Часовой": «Если эта борьба будет вестись под флагом освобождения России, участвовать в ней в составе вооруженных сил. Если будет борьба против большевиков, но не за русское единство, постараться вложиться в эту борьбу на русской территории и помогать тем русским силам, которые неизбежно пробудятся» ("Часовой". 1939. № 232-233. 1апр., с. 4-5).
Основания для этого были: в первые месяцы войны обезглавленная чистками армия проявляла мало готовности защищать Сталина (около 3 миллионов человек сдалось в плен), а народ, помня немцев по прежней войне, часто встречал их хлебом-солью как "освободителей"... После двух десятилетий террора настроения в СССР были такие, что если бы были созданы независимое российское правительство и освободительная армия, им не потребовалось бы боев с советскими войсками: достаточно было бы одного морального воздействия. На это и надеялась эмиграция.
Как ни расценивать сегодня эти надежды, совершенно неверно утверждение Костикова, что «можно по пальцам пересчитать» (с. 289/334) эмигрантов, сотрудничавших с немцами. В Югославии «подавляющая масса русской эмиграции имела правое политическое лицо и питала надежду, что поражение большевизма вызовет национальный подъем в России» ("Часовой". 1971 № 543. сент., с. 9-10), – писал очевидец. В Белграде для похода в Россию РОВСом был создан добровольческий "Русский корпус" (но ему в основном пришлось охранять население от коммунистических партизан, похода в Россию немцы не допустили: лишь в конце войны корпус вел оборонительные бои со вступившей в Югославию Красной армией).
Даже в парижской эмиграции летом 1941 г. в германскую армию зарегистрировалось «более полугора тысяч офицеров, изъявивших желание безоговорочно участвовать в борьбе против большевизма... Сперва было направлено около двухсот эмигрантов. Эти офицеры получили придуманную для них форму. На фронте были довольны ими. Многие из них были награждены знаками отличия за храбрость. Были убитые и раненые. Я беседовал с эмигрантами-добровольцами, пережил их первоначальное воодушевление, а позже – их разочарование и горечь...» (Штрик-Штрикфельдт В. Против Сталина и Гитлера. Франкфурт-на-Майне. 1975, с. 58-59), – писал участник событий с немецкой стороны.
Горечь – потому, что Гитлер вопреки своим пропагандным лозунгам стремился не к освсбождению России, а к превращению ее в колонию. Именно поэтому на оккупированные территории не пускали эмигрантов, даже священников, поскольку они "объединяются с населением". Колонизаторская антиславянская политика стала главной причиной поражения Германии. После первых ошеломительных успехов, объяснявшихся нежеланием россиян защищать свое рабство, сам же Гитлер заставил их воевать – под национальными лозунгами, спешно введенными Сталиным. Именно Гитлер сделал войну Отечественной, и на стороне защитников Сталина оказалась своя важная правда, оказавшаяся решающей: они защищали и родную землю...
Политика Гитлера не могла не вызвать протестов русских эмигрантов – из-за чего большинство их в 1942 г. было удалено из немецкой армии. Протестовали и немецкие генералы (режим в Германии еще не успел стать тоталитарным), видевшие в перемене ''восточной политики'' единственный шанс выиграть войну; они даже устроили покушение на Гитлера. Такие немцы вместе с генералом Власовым и эмигрантами добивались создания независимого русского правительства и Русской освободительной армии (РОА). Но Гитлер опасался, что РОА повернет оружие и против него.
Он не ошибся: единственным крупным боевым действием 1-й власовской дивизии, сформированной лишь в 1945 г., было освобождение Праги – от немцев. Вся история РОА – это история борьбы за ее разрешение, связанной со множеством унижений, обманов, арестов (подробно описана немцем В.К. Штрик-Штрикфельдтом в книге "Против Сталина и Гитлера"). В Вермахте, правда, воевали "восточные батальоны" общей численностью около миллиона советских граждан, но они были подчинены немцам, которые воспользовались идеей РОА лишь для пропагандного поощрения перебежчиков: к Власову и к усилиям эмиграции эти части отношения не имели.
Лишь в конце 1944 г. Гиммлер разрешил создать власовский "Комитет освобождения народов России" со статусом союзного правительства (четверть состава там были старыми эмигрантами). Но развернуться ему немцы не дали: впрочем, тогда это уже вряд ли могло что-либо изменить. По сравнению с началом войны ситуация была иной: КОНР не имел русской территории, в то время как патриотизм советской армии значительно возрос.
Помимо военного, было и нелегальное политическое участие эмиграции в военных событиях – под лозунгом "Против Сталина и Гитлера". Сотни членов НТСНП пытались отстроить независимую русскую сил у, нелегально устремившись на оккупированные территории. К 1943 году ими было охвачено 54 населенных пункта, в которых действовало до 120 групп (НТС. Мысль и дело. Франкфурт-на-Майне. 1990., с. 15). Все исследователи признают и соответствующее влияние членов HTCНП на власовское руководство в Берлине.
Так, идя с разных концов к одной цели, эмигранты и недавние подсоветские люди объединились в попытке создать "третью силу", с которой только и связывали надежду на освобождение (а вовсе уже не с немцами). В совпадении этих усилий было зримое проявление "идеи общей судьбы" в ее активном варианте. В той или иной форме в этом движении приняли участие миллионы людей (и это было несоизмеримо больше, чем участников французского Сопротивления). Все они надеялись и на поддержку западных демократий, но были выданы ими на расправу Сталину (в том числе многие тысячи старых эмигрантов и члены их семей).
Можно по-разному относиться к их компромиссам в отношениях с немецкими властями, с чьей территории только и можно было действовать. Особенно легко об этом судить ретроспективно, зная, чем кончилась война. Но в одном участникам тех событий отказать нельзя: в патриотизме и в праве действовать соответственно имевшимся возможностям. Они не собирались воевать против своего народа, а надеялись увлечь его на совместную борьбу за свободную Россию.
Их трагедия заключалась в том, что ни Сталину, ни Гитлеру, ни западным демократиям свободная Россия не была нужна. Гитлеровцами были убиты десятки членов НТСНП и более ста брошено в лагеря (иногда по доносам НКВД); а англо-американцы передали СМЕРШу одних лишь эмигрантов-офицеров РОА около 1500 человек. Русская "третья сила" оказалась песчинкой между трех жерновов. Но для самой "песчинки" эта почти утопическая цель была единственно приемлемой с нравственной точки зрения.
Тысячи эмигрантов сознательно шли на это, покидая свои семьи и рискуя жизнью (в "Русском корпусе" было убито и умерло 1132, ранено 3280, пропало без вести 2297 бойцов ["Часовой". 1971. №543, сент., с. 10]. Для них это было продолжением гражданской войны за Россию в рамках Второй мiровой. Они не написали книг, не внесли своего вклада в культурное наследие эмиграции. Но, как отмечал в другой связи Г. Федотов: героизм и подвижничество отдельных представителей нации имеют для нее такое же онтологическое значение, как создание художественных памятников и научных систем. Думается, тогда героизм был равноценен по обе стороны линии фронта, разделившей русских людей в те трудные годы...
Только на фоне этой трагической попытки создания "третьей силы" следует оценивать поведение тех эмигрантов, описанных Костиковым, которые во время войны удили рыбу во Франции, жалуясь на трудности жизни, после войны основали "Союз советских патриотов", называли власовцев "гестаповцами", пили за здоровье Сталина в советском посольстве, вывешивали на церковной ограде в Париже красный флаг...
Костиков полагает, что вся эмиграция подпала тогда «под "очарование" личности Сталина» и что лишь "погром" над журналами "Звезда" и "Ленинград" вселил «сомнение в обоснованности надежд на патриотическое и демократическое преображение отечества» (с. 314-321, 361-368). Думается, можно было прозреть и раньше: при виде насильственной репатриации советских граждан, которые нередко кончали с собой, зная, что их ждет в СССР (попавшие в плен приравнивались к "изменникам Родины", а увоз на работу Германию считался "сотрудничеством с врагом").
В странах Европы и в США тогда было выдано в СССР на расправу несколько миллионов человек. Костиков уделяет им всего несколько строк, полагая, что эта трагедия еще "ждет своих исследователей" (с. 312/ 358-359) – словно не написаны "Жертвы Ялты" Н. Толстого, "Последняя тайна" Н. Бетелла, словно не старалась тогда основная часть русского зарубежья спасать своих соотечественников – "вторую эмиграцию" (она оказалась в десять раз меньшей, чем могла бы быть)...
+ + +
В заключение Костиков снова просит читателей простить его за погрешности «дерзнувшего на первый робкий шаг» (с. 418/471). Пора бы, однако, за четыре года погрешности уже и исправить. Для этого прежде всего стоит обратиться к изданиям не замеченной автором основной части эмиграции.
Например, полезно почитать тот же "Часовой", чтобы увидеть, что это не "газетенка", а журнал, примечательный уже своим долголетием (1928‒1941, 1947‒1988). Из него Костиков может узнать, что генерал Врангель умер не в 1926 году (с. 364/414), а в 1928-м. Что приказ № 82 запрещал членам РОВСа участие в политических организациях не потому, что Врангель «все больше отходил от политической деятельности» (с. 363/412-41113), а чтобы поставить армейское братство выше политических разногласий (позже запрет был снят в отношении НТСНП, который РОВСом рассматривался как молодежная смена). Именно поэтому ни РОВС, ни "Часовой" не были ни "крайне правыми", ни "монархиствующими", а стояли (до самого кануна войны) на позиции непредрешения из эмиграции политического строя будущей России.
Если автор рискнет пойти направо еще дальше, он увидит, что и монархизм был разным (конституционным, парламентарным, самодержавным). Хотя Белые армии нигде не выступали под монархическим знаменем (это было категорическое требование Антанты). [за исключением Приамурского Земского Собора генерала М.К. Дитерихса в 1922 году. ‒ Прим. 2012] Зарубежный съезд 1926 года показал, что в первой эмиграции монархические взгляды преобладали. Монархистами были П.Б. Струве, И.А. Ильин; духовную оправданность монархии не отрицали прот. В. Зеньковский, А.В. Карташев и другие представители "парижской школы". Поэтому нет оснований утверждать, что «при всем разнообразии путей и способов "спасения России" у русской эмиграции» имелся один идеал: «демократическая Россия» (с. 7/37).
Идеалы в тогдашней Европе были таковы, что если после Первой мiровой войны во всех 22 государствах возникли парламенты (с постоянной чехардой правительств), то к 1938 году их осталось 10: на место других, сопротивляясь хаосу, экономической депрессии и натиску коммунистов, пришли авторитарные режимы, искавшие новых путей выхода из кризиса: корпоративно-социально-христианские (Испания, Португалия, Австрия), корпоративно-фашистский (Италия), национал-социалистические (Германия). Заметим, что слово "фашизм" имело тогда иное, совсем не гитлеровское значение и привлекало внимание ученых во многих странах, как и Католической Церкви.
Этими течениями интересовалась и русская эмиграция, относясь к фашизму достаточно критически из-за его нехристианской абсолютизации государства и осмысляя свой русский путь. В этом же русле видные мыслители (не только консерваторы) подвергали секулярную парламентарную демократию безпощадной критике: «за разрыв связи между свободой и истиной» (Ф. Степун. "Новый град". Париж. 1938. №13, с. 22‒23); за «отпадение от онтологических основ общества... Она хочет политически устроить человеческое общество так, как будто Истины не существовало бы» (Бердяев Н. Новое средневековье. Берлин. 1924, с. 108); за религию "прогресса", которая «принесла "опустошение и ожесточение" душ, "и в результате этого яркого и импонирующего развития культуры, просвещения, свободы и права человечество пришло на наших глазах к состоянию нового варварства» (Франк С. Крушение кумиров. Берлин. 1924, с. 47-48). В этом русле зрело и одухотворенное понимание "демократии снизу", на основе традиционного русского самоуправления (сторонником которого сегодня выступает А. Солженицын).
Костиков позволяет себе и такие антимонархические замечания: «царская семья... в момент революции являлась символом разложения власти»; а «казнь Романовых... в ночь с 29 на 30 июля 1918 г. придала этим незадачливым правителям ореол мученичества» (с. 230/273). Эти штампы, граничащие с кощунством, автору можно было бы простить, поскольку он не ведает того, что говорит: "разложения" не было обнаружено даже следственной комиссией Временного правительства; а Царскую Семью тайно убили (а не "казнили") 4/17 июля...
Согласно "новому мышлению" слово Бог уже в первом издании книги пишется Костиковым с большой буквы. Но автор так и не понял, что не всякая наука, где встречается это слово, называется богословием, а "теософия" (с. 252/296) к Православию и вовсе отношения не имеет. Приведенный им перечень "богословских" работ (с. 343/391-392) включает в себя большей частью философские и исторические. Было бы полезно их и прочесть: тогда Костиков нашел бы и в фундаментальном труде о. В. Зеньковского (а не только у "крайне правых") резкую критику софиологии о. Сергия Булгакова и "примата свободы" Н. Бердяева (мыслителей блестящих, но далеко не безспорных).
Следуя замыслу книги, Костиков попытался даже некоторых религиозных философов представить далекими от противостояния коммунистической идеологии. Что ж, Бердяев, Г. Федотов, о. Сергий Булгаков действительно признавали частичную "правду" социализма (протест против эгоистических крайностей капитализма), но отрицали его метафизическую, духовную "ложь" (атеизм). Мнение же, что у молодежи "Русского студенческого христианского движжения" «призывы религиозных философов искать спасения в Боге большого успеха не имели» (с. 254/298), – следовало проверить по "Вестнику РСХД", религиозно-культурному журналу высокого уровня.
А из совсем уж "реакционных" изданий (выделим "Православную Русь", выходящую с 1928 года) Костиков мог бы узнать, что парижский Богословский институт – далеко не «единственная русская богословская школа за границей» (с. 343/ 391). До войны работали Высшая богословская школа в Харбине и семинария в Болгарии; в США с 1938 г. существует Свято-Владимiрский богословский институт, с 1948 г. – семинария в Джорданвилле.
В книге вообще отсутствует понимание сложных проблем зарубежного Православия. Костиков, понятно, не стремился разобраться в каком-то там "поповском расколе": глава-панегирик митрополиту Евлогию объясняется тем, что в 1927 г. этот иерарх дал подписку о лояльности советской власти, а в 1945-м взял советский паспорт (лишь смерть помешала ему вернуться в СССР). Автора не интересует, что юрисдикция митр. Евлогия охватывала лишь около 6 % зарубежных приходов. Тогда как "контрреволюционная" Зарубежная Церковь в 1935–1946 гг. объединяла все остальные (около тысячи), но она удостоилась в книге лишь нескольких пренебрежительных упоминаний.
Заметим также, что Русская Зарубежная Церковь никогда не провозглашала своего "отделения" (с. 327/374) от Церкви на родине; наоборот – всегда считала себя свободной частью Русской Православной Церкви. Парижская юрисдикция пошла другим путем, осуществляя миссию "умирающего зерна": переставая быть русской, она несла плоды Православия западному мiру (как и бывшая Русская Епархия в Америке). О каждой из этих ветвей зарубежного Православия имеет смысл судить по тому, как они выполняли свои собственные миссии. Подчинение же части эмигрантов руководству Московской патриархии (что особенно нравится Костикову) было в те годы лишь "идеей обшей судьбы" в ее капитулянтском варианте.
Разумеется, далеко не все представители правой эмиграции выполняли основной долг русского зарубежья: служение возрождению Отечества. Даже правота порою может превращаться в гордыню и узость. Но не по грехам, а по достоинствам следует судить о значении правого фланга. И уж совсем неуместны и неосновательны утверждения, что антисоветские решения Собора Зарубежной Церкви «спровоцировали "церковный террор" в России 1921–1922 годов» (с. 330/377). Причины этого террора Костиков может найти в секретном письме Ленина ("Наш современник". Москва. 1990. №4, с. 167–169) от 19 марта 1922 г. То же самое большевики сделали бы не зависимо от поведения эмиграции, ибо только насилием можно было принуждать народ жить по "единственно верному учению"...
+ + +
Итак, товарищ Костиков уже в 1994 году, занимая важный государственный пост (пресс-секретарь президента Ельцина), вновь подтвердил свое единомыслие с той частью эмиграции, «которая отвергала не революцию, а извращение революции и ее демократических идей» (с. 416/469). Это тем более странно, что от "неизвращенных" революционных идей сегодня открещивается даже Зюганов.
Правда, во вступлении ко второму изданию автор в полном противоречии с содержанием своей книги неожиданно признает, что уже с расстрела демонстрации в поддержку разогнанного Учредительного собрания (январь 1918 г.) «большевистская власть начала войну с собственным народом» (с. 14). Но в таком случае разве не имела права эмиграция поддерживать борьбу своего народа (были тысячи восстаний и многие миллионы жертв!) против этой власти, разрушительные последствия которой мы расхлебываем и сегодня?..
Наши критические замечания продиктованы политическим уклоном книги В. Костикова. Поскольку он пишет о примиренческой эмиграции, в рецензии получился акцент на непримиримую, хотя главная ценность русского зарубежья для отечества заключалась не в политическом противостоянии. Основной недостаток книги в том, что автор не увидел главной миссии русской эмиграции: осознание ею призвания России – на основании опыта разных общественных систем. Г. Федотов нашел этому удачный образ:
«С той горы, к которой прибило наш ковчег, нам открывались грандиозные перспективы: воистину "все царства мiра и слава их" – вернее, их позор. В мiровой борьбе капитализма и коммунизма мы одни можем видеть оба склона – в Европу и в Россию: действительность, как она есть, без румян и прикрас» ("Новый град". 1932. № 2, с. З).
Этого опыта сегодня, похоже, не хватает многим деятелям, стремящимся вершить судьбы нашей страны. Его-то и стоит в первую очередь искать в эмигрантском ковчеге.
Михаил Назаров
Газета "Единение" , Сидней, 13.1.1995, №2 (2294) и 20.1.1995, №3 (2295)
Первый вариант: "Посев". Франкфурт-на М. 1991, №3
+ + +
ПС, март 2025. В. Костиков, бывший пресс-секретарь Ельцина, сейчас возглавляет центр стратегического планирования издательства "Аргументы и Факты". До меня дошел слух, что эту его халтурную книжку собираются переиздавать в виде учебного пособия...
К данной публикации на РИ добавлено несколько гиперссылок на упоминаемые события. Подробнее в двухтомнике МРЕ, доступен для скачивания:
Назаров М. Миссия русской эмиграции. Том I (М.: Русская Идея; СПб.: Русская Лира. 2020. – 544 стр. + 16 стр. илл.) и Том II (М.: Русская идея; СПб.: Русская лира. 2020. – Т. II. 736 с. + 16 стр. илл.)/

Ценная информация, только не лишне было бы слелать поправки на изменение ситуации за время, прошедшее со времени публикации статьи, например, вывод о "власти, разрушительные последствия которой мы расхлебываем...". После того, что натворили последующие власти, та представляется почти "белой и пушистой" Другими словами, "во время тифа о насморке не думают".
Об изменении ситуации см. в следующих статьях и книгах на сайте: ТР и ВТР.