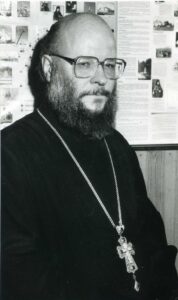 Не знаю была ли когда-либо опубликована эта статья моего покойного наставника и друга протоиерея Михаила Капранова. К сожалению, только сейчас обнаружил её на своём компьютере в файле с ничего не говорящим названием «Книга». Как это прошло мимо моего внимания ‒ ума не приложу. Там, видимо, внучкой о. Михаила были собраны материалы, для публикации книги о нём и его статьи. В Интернете я её не нашел. Книга, насколько знаю, тоже не вышла. Считаю своим долгом опубликовать эту статью одного из самых близких и дорогих мне людей о тоже близком по духу русском мыслителе. ‒ Прот. Георгий Титов
Не знаю была ли когда-либо опубликована эта статья моего покойного наставника и друга протоиерея Михаила Капранова. К сожалению, только сейчас обнаружил её на своём компьютере в файле с ничего не говорящим названием «Книга». Как это прошло мимо моего внимания ‒ ума не приложу. Там, видимо, внучкой о. Михаила были собраны материалы, для публикации книги о нём и его статьи. В Интернете я её не нашел. Книга, насколько знаю, тоже не вышла. Считаю своим долгом опубликовать эту статью одного из самых близких и дорогих мне людей о тоже близком по духу русском мыслителе. ‒ Прот. Георгий Титов
+ + +
Русская мысль трагична! Впрочем, настолько, насколько трагична наша история, или наше «житие» по слову К. Аксакова.
«Русская философия, — пишет Г. Флоровский [16, с. 236], — это пробуждение, вспышка, увлечение… — дух захватило…». Если о понятии «философия» (в классическом смысле) в отношении К. Леонтьева можно говорить лишь условно, то уж «вспышка», «дух захватило» — это действительно К. Леонтьев, его мысль, его наследие, его жизнь.
Он родился во времена царствования императора Николая I в 1832 году и скончался в блестящее царствование Александра III в 1891 г. Правда, ни XIX век, ни тем более XX, не поняли и не приняли его, за редким исключением. «Проповедник православия, самодержавия, народности [13, с. 145], консерватор и проповедник изуверства по имя мистических целей, безумный реакционер» [14, с. 146], даже по И. Аксакову у К. Леонтьева – «сладострастный культ палки».
Но вот что пишет о нем В. Розанов [10, с. 29] и далее: «Прошел великий муж по Руси и лег в могилу. Ни звука при нем о нем. Карканьем ворон он встречен и провожен». Наконец, характеристика В. Соловьева: «Он религиозно верил в положительную истину христианства в узко монашеском смысле личного спасения, политически надеялся на торжество консервативных начал в нашем отечестве, взятие Царьграда и основание великой неовизантийской или греко-российской культуры; эстетически любил все красивое и сильное».
Его собрание сочинений не успели выпустить до 1917 г., и, конечно, оно не вышло и до сих пор. Правда, порой неожиданно открывалась его абсолютная современность. Только в советских политических лагерях ГУЛАГа, по свидетельству очевидцев нашего столетия, он был читаем и понят как никогда. После падения большевизма было создано «Философское общество им. К. Леонтьева», выпустившее репринтом многие посвященные ему материалы.
«Мы пожили много, сотворили духом мало и стоим у какого-то страшного предела» (К. Леонтьев). Это голос пророка, прозревающего будущее.
И странно звучат слова В. Розанова: «Он во всем ошибся, … он нес свои идеи как тягость, как болезнь, призрачность этой тягости становится ясна тем поздно, что уже не может прозвучать для него облегчающею вестью. Так, благородная душа, ты ошиблась; и ты не сошла бы так уныло в могилу, если бы жила истиною, а не этим заблуждением» [10, с. 303]. Как не менее странны слова Н. Бердяева: «Бывают писатели с невыразимо печальной судьбой, неузнанные, непонятные, никому не пригодившиеся, умирающие в духовном одиночестве» [14, с. 145].
Калужский помещик, студент Московского университета, участник Крымской кампании, врач в Нижегородской губернии, писатель, горячий поклонник И. Тургенева, дипломат на Востоке, паломник на Афоне, публицист, цензор, и, наконец, монах, духовное чадо великого старца Амвросия Оптинского.
 К. Леонтьев родился в с. Кудиново Мещовского уезда Калужской губернии в небогатой помещичьей семье. Отец умер, когда мальчику было 8 лет, и своим начальным образованием и воспитанием он был обязан матери, которую всю жизнь нежно любил. Она была образованной женщиной, много читавшей и глубоко религиозной. Она и заложила в душу мальчика первые семена веры. Свои детские впечатления от богослужения и молитвы матери часто вспоминались ему в зрелые годы. С детства сохранились в нем и впечатления от посещения Оптиной пустыни, находившейся недалеко от их имения. Ему там так понравилось, что он сказал: «Вы меня больше сюда не водите, а то я непременно здесь останусь…».
К. Леонтьев родился в с. Кудиново Мещовского уезда Калужской губернии в небогатой помещичьей семье. Отец умер, когда мальчику было 8 лет, и своим начальным образованием и воспитанием он был обязан матери, которую всю жизнь нежно любил. Она была образованной женщиной, много читавшей и глубоко религиозной. Она и заложила в душу мальчика первые семена веры. Свои детские впечатления от богослужения и молитвы матери часто вспоминались ему в зрелые годы. С детства сохранились в нем и впечатления от посещения Оптиной пустыни, находившейся недалеко от их имения. Ему там так понравилось, что он сказал: «Вы меня больше сюда не водите, а то я непременно здесь останусь…».
Одновременно с религиозным чувством в его душе раскрывалось глубокое ощущение прекрасного. «И этим, — неоднократно говорил и писал К. Леонтьев, — я обязан драгоценному образу красивой, всегда щеголеватой и благородной матери». Кабинет матери, усыпанный цветами; сад, покрытый искрящейся белизною чистого снега, теплый свет лампады на утренней молитве, святые слова Псалмопевца… Эти детские впечатления не могли погаснуть и бесследно исчезнуть в молодой ищущей душе.
Гимназия, Ярославский Демидовский лицей, медицинский факультет Московского университета. В своем романе «Подлипки», во многом, по мнению исследователей, автобиографическом, он изобразил себя в это время как впечатлительного, страстного юношу, нежного и резкого, увлекающегося женщинами и, конечно, кумиром молодежи того времени В. Белинским, увы, к этому времени уже почти потерявшего свою чистую детскую веру. Медицина (кстати, не очень любимая), успешные литературные труды (о них хорошо отзывался И. Тургенев), общая атмосфера некоего «вольтерьянства» в студенческой среде, — все это привело его к принятию материалистического учения. Спасло же от полного отдаления от «веры отцов» глубинное эстетическое чувство человека, вбиравшего в себя красоту храма и богослужения, священнического облачения и кадильного дыма.
Участие в Крымской кампании стало для него явлением новым. Военные стычки и работа в госпитале, великолепие крымской природы не могли не оставить следа в его душе. Но он ждал и искал большего. Он чувствовал в себе особое призвание. Отставка после окончания войны, работа врачом в имении барона Розена в Нижегородской губернии, появившиеся в печати его литературные произведения; Петербург, куда он приезжал, бросив свои занятия медициной, не приносят ему успокоения. В 1861 году он женится на полуграмотной, простодушной, но красивой мещанке Елизавете Павловне Политовой, с которой он познакомился еще во времена Крымской кампании, в этом же году выходит в свет его большой роман «Подлипки», а в 1864 г. новый роман «В своем краю».
Крайнею проповедью эстетизма и в романах, и в критических статьях «красоты, оправдывающей и добро, и зло, несовместимой лишь с пошлостью… бесцветного равенства… и подлостью всеобщей свободы» отмечено все его творчество. Это был вызов обществу, всему прогрессивному, всем либеральным идеям, господствовавшим в это время. Исследователи отмечают, что 1862 год стал для К. Леонтьева решительным разрывом с либеральными идеями и прогрессом (которыми он до этого увлекался). Ибо красота, по его мнению, в иерархии неравенства, в строе и дисциплине армии, на стороне самодержавия и святой Церкви.
«Да, я исправился скоро, — пишет К. Леонтьев в «Записках отшельника», — хотя борьба идей в уме моем была до того сильна в 1862 году, что я исхудал и почти целые петербургские зимние ночи проводил нередко без сна, положивши голову и руки на стол в изнеможении страдальческого раздумья. Я идеями не шутил, и нелегко мне было сжигать то, чему меня учили поклоняться…».
В феврале 1863 г. он поступает на службу в Министерство иностранных дел, и в октябре он уже секретарь русского консульства на Крите. Константинополь, Адрианополь, Тульча, Янина, Салоники… Он живет красотой Востока, его ароматами, его тишиной и покоем. Здесь постепенно восстанавливаются его личные религиозные переживания. Неизлечимое психическое заболевание жены, смерть горячо любимой матери, изнурительная лихорадка ставят его на грань физической и духовной катастрофы. Июль 1871 г., страшный приступ холеры, ужас телесной смерти. Все грехи, содеянные им когда-то, встают перед ним как причина карающей руки Господней. Он обращается к образу Божьей Матери, подарку Афонских монахов, и просит прощения и милосердия, давая обет в случае своего выздоровления принять монашество.
Через два часа он встает с постели здоровым и совершенно другим человеком. Несомненно, это был призыв Господень, посвящение Божие. С этого дня он и становится тем К.Н. Леонтьевым, которого мы знаем как русского православного мыслителя, глашатая духовной красоты и силы.
В письме к В. Розанову (от 14.08.1891 г.) он так описывает происшедшее с ним в июле 1871 года:
«Причин было много разумных; и сердечных, умственных и, наконец, тех внешних и, по-видимому (только) случайных, в которых нередко гораздо больше открывается высшая телеология, чем в ясных самому человеку внутренних переживаниях. Думаю, впрочем, что в основе всего лежит, с одной стороны, уже и тогда в 1870–71 г. давняя (с 1861–62 г.) философская ненависть к формам и духу новейшей европейской жизни (Петербург, литературная пошлость, железные дороги, пиджаки, цилиндры, рационализм и т.п.), а с другой – эстетическая и детская какая-то приверженность к внешним формам Православия, прибавьте к этому сильный и неожиданный толчок сильнейших и глубочайших потрясений, … и, наконец, внешнюю случайность опаснейшей… болезни (1871 г.) и ужас смерти в эту минуту…
Все главное мною сделано после 1872-73 г. после поездки на Афон после страстного обращения к личному Православию… Личная вера вдруг докончила в 40 лет и политическое, и художественное воспитание мое. Это и до сих пор удивляет меня и остается для меня таинственным и непонятным».
Проведя после этого почти год на Афоне у духовника русской обители старца Иеронима, утешаясь словом архимандрита Макария Афонского, К. Леонтьев окончательно убеждается в особом афонском подвижническом духе, который становится для него всей полнотой святоотеческого Православия.
В 1873 г. он уходит в отставку и некоторое время вместе с женой живет вначале в Константинополе, а затем на о. Халки, чтобы весной 1874 г. окончательно покинуть полюбившийся ему Восток.
К этому времени он хорошо знаком со славянофилам и их идеями, а с А. Хомяковым и Погодиным еще с 50-х годов; дружен, переписывается со Страховым, печатается у М. Каткова в «Русском вестнике»; громадное влияние на него оказывает вышедшая отдельным изданием в 1871 году замечательная работа Н.Я. Данилевского «Россия и Европа», ставшая его настольной книгой. Н. Данилевского он считает своим учителем.
Вскоре появляется его блестящая статья «Византизм и славянство», где Леонтьев определяет развитие человечества от начальной простоты до цветущей сложности и вторичному упрощению, разложению и гибели. Он вновь открывает для себя Оптину пустынь, знакомится со старцем Амвросием и о. Климентом (Зедергольмом), посещает и подолгу живет в разных монастырях. Очень большое влияние на него оказал о. Климент, сын протестантского пастора, окончивший историко-филологический факультет Московского университета, в 1853 г. принявший Православие, а скоре и монашество в Оптиной пустыни.
Блестяще образованный, знавший и ценивший Афон, прекрасно разбирающийся в литературе и политике, наконец, настоящий подвижник православия, он становится для Леонтьева другом, собеседником и наставником, готовя его к духовному усыновлению великим старцем Амвросием Оптинским. Постоянные болезни и материальные затруднения делали жизнь К.Н. Леонтьева нелегкой, но главное заключалось в его неповторимых мыслях и взглядах, неприемлемых как для «левых», так и для «правых». Для абсолютного большинства это была слишком «твердая пища» [7, с. 123].
Краткий период работы в «Варшавском дневнике» дал возможность появления многих блестящих статей К. Леонтьева. В конце 1880 года он с помощью друзей получает место цензора в Москве.
К этому времени относится появление его знаменитых статей «Наши новые христиане» о религиозных взглядах Ф. Достоевского и Л. Толстого, и «Восток, Россия и Славянство». В полном соответствии со святоотеческим преданием Церкви К. Леонтьев подчеркивает, что смысл и цель христианства нельзя сводить к гуманности и гармонии, невозможно построить Царство Божие на нашей грешной земле, страх Божий есть основа веры и непременное условие личного спасения.
В 1887 году он уезжает в Оптину пустынь и окончательно становится под духовное окормление преподобного Амвросия. В эти годы выходят его «Записки отшельника» и некоторые статьи. 23 августа 1891 года в Оптиной пустыни он принимает тайный монашеский постриг с именем Климент и по благословению старца Амвросия переселяется в Троице-Сергиеву Лавру.
В начале ноября, простудившись, он заболевает воспалением легких, дважды исповедуется и причащается у старца Варнавы из Гефсиманского скита, принимает святое таинство соборования. 12 ноября (ст. ст.) 1891 г. К. Леонтьев (монах Климент) отходит к Господу. Его могила в Гефсиманском скиту у храма Черниговской иконы Божьей Матери после 1917 года была уничтожена вместе с могилой В. Розанова, завещавшего похоронить себя рядом с К. Леонтьевым, и только несколько лет назад трудами почитателей памяти К. Леонтьева была восстановлена.
Мы кратко остановились на важнейших вехах жизни К. Леонтьева. Его детская вера, как будто бы сменившаяся модным «вольтерьянством», никогда действительно не исчезала из глубины души этого замечательного мыслителя. Да и в его «вольтерьянстве» не было насмешки и злобы атеизма, было непонимание, была некая свободная мораль, правда, всегда сдерживающаяся глубинным эстетическим, консервативным чувством, которое и не могло не привести к воскресению личного Божественного идеала в сердце К. Леонтьева, как вершины иерархии Красоты.
Красота, поразившая наших предков в храме св. Софии в Царьграде при выборе Православной веры, вполне созвучна идеалу красоты К. Леонтьева. Даже образ Страшного Суда, открывший св. равноапостольному князю Владимиру крестителю Руси полноту человеческого бытия в загробном мире, подобен страху смерти и ужасу наказания, пережитому в июле 1871 г. К. Леонтьевым и открывшему ему личного Спасителя и вечную жизнь. Пленившая его душу в детстве, померкшая было в модном отрицании, красота засияла всей полнотой Божественного бытия в зрелости, осветив всю оставшуюся его жизнь Святорусским подвигом монашества, ‒ так в уповании на будущее величие России и Самодержавия завершился путь К. Леонтьева.
«Леонтьев, — пишет И. Концевич [9, с. 294], — был человеком строго Православным, исповедуя византийское, филаретовское, оптинское православие».
Протоиерей Михаил Капранов
Алтайский отдел Союза Русского Народа
См. также:
12.11.1891 (25.11). - Умер философ и писатель Константин Николаевич Леонтьев
Л.А. Тихомиров. "Русские идеалы и К.Н. Леонтьев"


Замечательная статья! Большое спасибо, Михаил Викторович!
"конечно, оно не вышло и до сих пор." Что такое здесь? Вышло ПОЛНОЕ собрание в 12 томах, изд."Владимир Даль", начало в 2000 году, окончание в 2020-м. Такие дела... и ещё "только несколько лет назад трудами почитателей памяти К. Леонтьева", но могила уже давно восстановлена ...Такие дела...
Это статья давно скончавшгося человека, опубликована как память о нем. И при его жизни было то, что он написал.Такие дела.